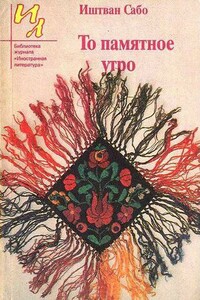Потом он еще долго ругал и проклинал себя за малодушие и все снова и снова прокручивал в памяти, как на экране видеомагнитофона, тот долгожданный момент, когда она проходила мимо него, стоявшего в вонючем подъезде с ребятами, проходила так близко, что он с трепетом сердца услышал тонкий и горьковатый запах ее духов, и когда он растерялся, струсил и не мог подойти к ней, и то, что рисовалось в мечтах, вдруг, в один миг сделалось таким трудным, почти невозможным, что у него тогда и мысли по-настоящему не появилось, чтобы подойти и что-то сказать ей…
Сейчас он появится… Вот сейчас… С поднятым воротником плаща, с короткой седой стрижкой. Вот он! А теперь она выглянет в окно. Почему же не видно ее? А он уже в машине. Но не отъезжает. Руки на руле, подбородком оперся о руки. И все нет ее в окне… Ну, наконец-то, отъехал… Черт, до чего же противный визг тормозов! Вот и она. Но… Что это она так уставилась в мою сторону?
— Эй, мальчик!
"Это вы мне?"
— Эй, мальчик, поди сюда!
"Вы меня зовете? Сейчас, сейчас иду…"
— Ты что, оглох?! — говорила она негромко, но властно, а на улице было тихо, свет во многих окнах уже не горел, было очень тихо, только слабый ветерок шелестел в листве дерева, под которым он стоял, и оттого, что она так властно и резко говорила, ему казалось, что она почти кричит, и потому он немножко струсил.
Наконец горло отпустило, он перевел дыхание и дрогнувшим голосом спросил:
— Вы мне?
— А разве, кроме тебя, там еще кто-нибудь есть?
— Нет.
— Тогда иди ты. Подойди.
Он подошел. Он чувствовал, как сжалось сердце.
— Ты что там стоишь каждый вечер? — строго спросила она.
Он молчал, не сводя с ее лица взгляда. Это ее немного смутило, но тем не менее все так же строго она спросила:
— Ты разглядываешь мое окно. Почему?
— Я… я ничего… Просто шел мимо, — выговорил наконец он, ужасно труся, деревянным, не ворочавшимся во рту языком.
— Рассказывай, — сердито проворчала она и уронила пепел с сигареты на тротуар рядом с ним. — Мимо он шел… Хочешь, чтобы я позвонила в милицию?
— Не хочу, — сказал он.
— Понятно, не хочешь, — сказала она. — Ну, так иди. Не стой здесь больше. Тебе сколько лет?
Он даже не успел подумать, стоит ли в данном случае врать, сразу сказал, как оно есть — шестнадцать, сказал.
— Мальчики твоего возраста давно уже в постелях, — сказала она. — Иди, милый, домой…
* * *
— Попробуй… Затянись, как сигарету куришь.
— Это же нетрудно. Ты сигареты куришь? Куришь. Вот и это так же.
— Попробуй, не пожалеешь. Закейфуешь — еще благодарить будешь, еще попросишь — не дадим… Ха-ха… Дай ему чинарик, Кент.
— Дать ему?! Да ты что?! Здесь самый смак остался, а ты говоришь, дай фрайеру. Да что он в этом поймет! Ты что, Маэстро?..
— Ничего, ничего, дай, не жмоться. Пусть ему самый смак достанется. Мы не жадные.
— Да, да, мы добрые. Дай ему, Кент. А мы посмотрим, порадуемся за кореша.
— Нет, я не хочу, — нерешительно сказал он, глядя смущенно на протянутый ему рукой Кента в татуировках окурок папиросы.
— Дают — бери, — сказал Маэстро.
— Ты смотри, он еще раздумывать будет! — возмутился Кент. — Бери — спасибо скажешь… Остатки — сладки…
— Да я не очень… — пробормотал он, все еще стесняясь, с одной стороны, и не желая ударить лицом в грязь перед этими парнями — с другой, уже протягивая руку и беря окурок папиросы.
— Затянись как следует, затянись покрепче, несколько раз подряд. Вот так. Теперь подыши, вдохни глубоко. Еще затянись. Крепче. Молодец. Вот, теперь жди прихода…
— О! Посмотрите на него! Посмотрите на его глаза. Он поплыл!
— Закейфовал!
— А, поплыл? Счастливого плавания. Ну как, Закир, нравится?
Закир поднял большой палец, показывая, что здорово.
— Смотрите, Пласткожа идет.
— Очень на педика он становится похож в последнее время.
— Ха-ха-ха…
— Здорово, здорово, Пласткожа.
— Привет хорошим ребятам.
— Говорят, ты на педика похож.
— Кто говорит? Кто говорит, я тому язык оторву!
— Моло-оде-ец!
— Ха-ха-ха! Пласткожа похож на педика…
— Ты что, Закир, заводишься? Схлопочешь, смотри… — Он уже поплыл… Ты разве не видишь, что мы уже закейфовали?
— Я тоже немного с утра поймал кайф… Тоже немного есть приход.