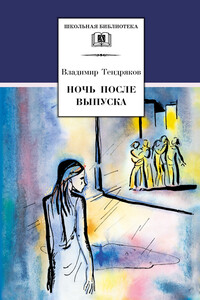«Видно, Груздев с Саватьевой наговорили, что я Возницына защищал, — гадал Паникратов. — Ведет меня показать, носом ткнуть: погляди, что из этой помощи получилось. Рад, поди, что Паникратов близоруким оказался. То-то до поры и добрым прикидывается, даже на хозяйское место в машине не сел, а рядом: мол, равные мы с тобой».
Огородное хозяйство «Свободы» отделялось от реки высоким, заматеревшим от старости ивняком. Со стороны эти кусты казались густыми — не продерешься. На самом же деле все они изрезаны широкими тропинками и даже дорогами. По ним возят бочками и носят ведрами из реки воду для поливки.
Но Роднев с Паникратовым не дошли до этих кустов. Не повернули они и к небольшому, одиноко стоявшему на берегу домику, около которого раскинулось знаменитое на весь район «возницынское стеклянное поле». Оно называлось так потому, что здесь добрых полгектара занимали парники. И когда они были закрыты, казалось: действительно вся земля здесь одета в стекло.
Они прошли по кромке капустного поля, и Роднев, словно мимоходом, кивнул:
— Хорошо капустка принимается! А?
Паникратов промолчал. Что и говорить — хорошо.
В черных сырых лунках, вытянув к солнцу зеленые ладошки, топорщились крепкие растеньица.
Перебравшись через мелкий овражек, поросший кустарником и дремучей крапивой, они оказались на поле колхоза «Рассвет».
— Вот и пришли, — произнес Роднев, глядя под ноги.
У его ног была мелкая сухая лунка, в ней лежал вялый, как тряпичный обрывок, кустик капустной рассады; сморщенные листочки уже потеряли зеленый цвет.
Роднев носком сапога ткнул в лунку и проговорил:
— Ну, Федор Алексеевич, не вышло здесь с учебой?
— Тебе видней. Я не специалист по этому.
— Всем видно: не смог Макар научить, как капусту сажать.
— Макара винить нечего, от души человек желал помочь.
— Я его и не виню. Я себя виню, райком.
Паникратов подозрительно покосился.
— А вина наша в том, — продолжал Роднев, — что мы слишком бумажкам доверились. Рассылаем их во все концы: «Учитесь у лучших», «Передавайте опыт» и разное там… А канцелярской бумажкой сердца не зажжешь. Жизнь ставит неожиданные задачи, ты их на месте должен решать. Кто загорится, тот сделает, а кто с холодком — ждать хорошего нечего. Не скрою, надеялся я, что ты, Федор Алексеевич, загоришься, других зажжешь…
— Выходит, виноват-то я, не райком, — не загорелся, не зажег, — усмехнулся Паникратов.
— Нет, скорей всего райком виноват. Не можем тебя зажечь.
Паникратов пожал плечами: «Ишь умник. Вылез наверх и уж похлопывает свысока: не можем-де зажечь».
— Слышал, что инженеры приехали? Начинаем строить гэс на Важенке и Былине.
— Краем уха слышал.
— Мне кажется, и гэс вы свою будете строить через пень-колоду.
— Это почему?
— Да потому, что гэс — межколхозная, а у вас между колхозами большой дружбы не чувствуется. Взять хоть помощь Возницына. Вспахал, рассадой выручил — казалось бы, удружил, а дружбы не вышло. Наверняка теперь в колхозе «Рассвет» ворчат на Возницына: подбил, мол, нас на капусту, уж лучше бы мы овсом засеяли, пропадет зря земля.
Они с минуту помолчали, оба разглядывая унылое в спекшихся комках поле, на котором еще кой-где боролись за жизнь хилые зеленые кустики.
«Ну, что ты мне поешь? — думал Паникратов. — Сам знаю, что надо было действовать иначе».
— Вот подумай и Макара заставь подумать. Он, верно, не считает себя виновным. И об одном еще прошу, Федор: будет трудно — звони, приезжай, беспокой меня. Вместе-то решить проще.
Паникратов хмуро кивнул головой. Он не был уверен, что у него когда-либо появится желание «беспокоить» Роднева.
На другой день Паникратов привел полюбоваться «рассветинской капусткой» председателя колхоза «Свобода» Макара Возницына.
Федор Алексеевич ткнул носком сапога в лунку, где лежал мятый кустик рассады, и произнес:
— Поле-то мертвое. Учитель! Капусту сажать научить не мог… Не работать бы надо за соседей, а уму-разуму их учить! Не стыдно теперь глядеть?
Возницын, краснолицый, с двойным подбородком, расставив толстые ноги, с минуту оглядывал поле, словно увидел его впервые.
— От таких безруких всего можно ждать, — наконец, с хрипотцой пробасил он. — Ты видел, как они с рассадой обращались? — И без того красное лицо Макара вдруг побурело от негодования. — Вот где стыд мой! — Он, зажав в пухлой руке сложенную газету, стал потрясать ею перед носом Паникратова. — За чужие грехи краснеть приходится. Сам небось читал да подсмеивался над дурнем с широкой душой, Макаром Возницыным.