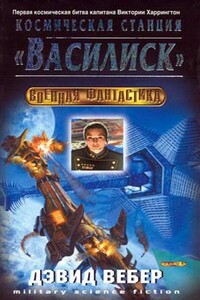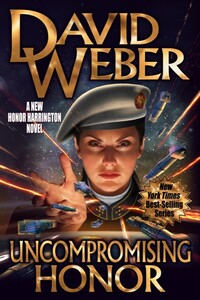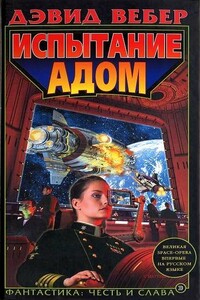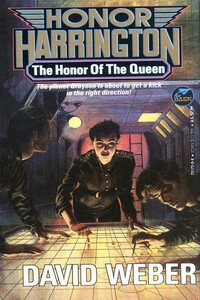Их взгляды встретились, и Дючейрн знал, что это встало между ними. Знал, что Клинтан осознал, что это был момент, от которого он не отступит. Он увидел знакомое презрение к собственной слабости, собственной мягкости в глазах великого инквизитора, увидел презрение в изгибе губ Клинтана от того, как дешево он мог купить уступчивость Дючейрна — его предложение о соучастии, ибо именно к этому это и привело бы. И все же это была лучшая сделка, на которую казначей мог надеяться за этим столом, в этом зале совещаний, и они оба тоже это знали.
На мгновение повисла тишина, а затем Клинтан кивнул.
— Конечно, они будут ожидать этого от нас, Робейр. — Он тонко улыбнулся. — И ты — идеальный выбор, чтобы организовать это для нас.
— Спасибо, Жаспар, — сказал Дючейрн, когда Тринейр и Мейгвейр пробормотали свое согласие. — Я постараюсь вызвать как можно меньше беспорядков в чисто военных действиях.
Он ответил Клинтану своей собственной улыбкой, в то время как в его сердце кипела черная жажда убийства. Но в глубине его души кипело нечто большее, чем простая ненависть. Он откинулся на спинку стула, слушая, как Клинтан и Мейгвейр более подробно обсуждают новое оружие, и его глаза были холодны, когда он размышлял о будущем. Это действительно было поразительно. Жаспар Клинтан разбирался в заговорах, интригах, предательстве и измене. Он понимал ложь и угрозы, осознавал силу террора и сладкий вкус уничтожения своих врагов. Он знал все о железном стержне, о том, как ломать кости своим врагам. И все же, несмотря на всю его силу, амбиции и безжалостный напор, он был совершенно слеп к смертоносной силе мягкости.
Еще нет, Жаспар, — тихо подумал он. — Ещё нет. Но в один прекрасный день ты можешь просто обнаружить это на собственном горьком опыте. И если Бог благ, Он позволит мне прожить, по крайней мере, достаточно долго, чтобы увидеть, как ты это делаешь.
Собор Гората, город Горат, королевство Долар
— Поэтому, с ангелами и архангелами, и со всем обществом небес, мы прославляем Твое славное Имя, вечно восхваляя Тебя и говоря: свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф, творец всего мира, небо и земля полны Твоей славы. Слава Тебе, Господи, создатель наш. Аминь.
Ливис Гардинир, граф Тирск, подписался скипетром Лэнгхорна, поднялся с колен и сел на богато обитую скамью, подавив гримасу из-за мягкой глубины этой обивки.
Он вырос в поместьях своей семьи, вдали от столицы королевства Долар и его собора, и он действительно предпочитал простые деревянные скамьи своей юности сверкающей роскоши собора Гората. Конечно, в целом он склонялся к более простому и менее показному образу жизни, чем тот, в котором существовали богатые и могущественные жители Гората. Он обнаружил, что отвращение к показухе становится все более заметным там, где речь идет о религии, и чувствовал это сейчас, хотя у него не было другого выбора, кроме как признать великолепие архитектуры собора, скульптур и витражей. Нельзя было отрицать блеск его алтарной службы, гладко сверкающее совершенство его пола, вымощенного золотым камнем, которым славился Долар, и украшенного личными символами архангелов, величие его шпилей, увенчанных двумя скипетрами. Он совершил свой обязательный визит в Храм в далеком Зионе и знал, что собор Гората был всего лишь смазанной копией самого дома Бога на земле, но, несмотря на это, он возвышался высоко в небеса во славу Бога и архангелов. И, несмотря на его противоречивые предпочтения, его красоты было почти достаточно, чтобы помочь ему забыть, по крайней мере на мгновение, о войне, которая велась за сердце и душу Матери-Церкви.
Почти.
Теперь он наблюдал, как епископ-исполнитель Уилсин Лейнир опустил свои молитвенно воздетые руки и повернулся от алтаря лицом к немноголюдному собору. Он подошел к кафедре и встал за ней и за инкрустированным золотом и драгоценными камнями экземпляром Священного Писания. Но вместо того, чтобы открыть великолепно освещенный том, он просто сложил на нем руки.
Тирск взглянул на епископа-исполнителя с каменным выражением лица, старательно ничего не выражая. Ему не нравился Лейнир. Ему также не особенно нравился Арейн Марлоу, предшественник Лейнира, но он нашел, что глубоко сожалеет о сердечном приступе Марлоу, особенно когда обнаружил, что все больше расходится с политикой Лейнира и тем, как епископ-исполнитель настоял на жестоком обращении с чарисийскими пленными, которые сдались ему. Он также слышал подробности того, что случилось с теми же заключенными после того, как ему приказали передать их инквизиции, и эти подробности наполнили его холодной и горькой ненавистью к самому себе. У него не было выбора. Это был его долг, и тройной: как дворянина королевства Долар, обязанного повиноваться приказам своего короля; как командующего королевским флотом Долара, обязанного повиноваться своим законно назначенным начальникам; и как сына Матери-Церкви, обязанного повиноваться ее приказам во всем. И потом, его долг как отца и деда — не делать ничего такого, что могло бы дать Абсалану Хармичу, интенданту-шулериту архиепископства Гората, повод отдать его семью той же инквизиции, которая убила тех военнопленных.