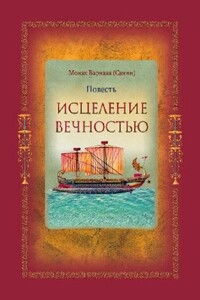ЮНОША, КОТОРЫЙ НЕ ЗНАЕТ,
ЧТО СКАЗАТЬ
Оливеро лежит под несколькими одеялами. Мамина положила ему на грудь, сама не зная зачем, грелку с горячей водой. Его уложили на диване в гостиной, и это очень правильно, ему там хорошо, и устроили его поудобнее, подложив подушек. Он очень бледный. Он похож на фигурку из китайской бумаги, которая тяжело дышит, вернее, притворяется, что дышит. От него все еще сильно пахнет дерьмом. Несмотря на то что его тщательно вымыли и даже истратили на него последнюю каплю припрятанного одеколона «1800», от Оливеро все равно несет дерьмом.
Иногда лицо этого пятидесятилетнего мужчины (напоминающее того Марио дель Монако, на которого был похож его отец, когда уже был не вылитым Марио дель Монако, а вылитым мертвецом) морщится, на нем появляется гримаса, но непонятно, хочет ли он засмеяться или заплакать. Рот, искривленный то ли улыбкой, то ли болью, издает какой-то краткий звук. Никто не знает, никто не может понять, восклицание ли это, слово, жалоба, проклятие или смех.
Рядом с ним в кресле сидит Элиса, сейчас она похожа на неприбранную, постаревшую, разочарованную Лорен Бэколл в сцене какого-нибудь кино о войне. Неуверенная, не зная хорошо своей роли, Элиса держит чашку обеими руками и пытается заставить Оливеро выпить отвара, в который входит липа, звездчатый анис, вербена, мята, в общем, весь этот винегрет, который Мамина всегда заваривает с небольшим количеством меда. Это одно из тех снадобий, которые старая негритянка готовит, когда на кого-нибудь из домашних нападает, как она говорит, «хворь» и он жалуется все равно на что — на простуду, головную боль или живот. Снадобье налито в чашку из фарфора «Ленокс», на которой по указанию доктора черными мелкими буквами когда-то было выгравировано: «Я король всего, что вижу».
Молчаливый и печальный, в гостиную заходит Немой Болтун. А может, и не заходит, возможно, он уже находился там, но никто этого не замечал. Этот парень в самом деле может болтать без умолку, а может не произносить ни слова, может быть видимым и невидимым.
Он робко ходит кругами вокруг тети и дяди. И наконец, набравшись смелости, останавливается прямо перед ними.
Кажется, часы бьют пять. Это, конечно, невозможно. Часы больше не бьют. Ни пять, ни шесть, ни десять. Старинных часов, выбранных Хосе Марти, больше не существует. Так что сейчас может быть семь, или восемь, или сколько угодно часов вечера, но никакой бой часов — точный или ошибочный — не прозвучит на весь дом.
Все указывает на то, что там, снаружи, ливень усилился.
— Я хотел спросить у вас, — говорит Болтун.
Он не заканчивает вопрос. Оставляет его в воздухе, как будто вопрос настолько очевиден, что не стоит тратить слов.
Он садится на диван, в ногах у дяди. Во время затянувшейся паузы происходит много вещей, например Мария де Мегара, собака Мамины, подходит, волоча свои груди и свои годы, и садится рядом, глядя замутненными, белесыми глазами.
Несмотря на сильный шум дождя, слышно, как наверху хлопают крыльями вьюрки. Это тоже невозможно, потому что вьюрков больше нет.
— Я хотел узнать, давно хочу вас спросить… — снова говорит Болтун.
И снова замолкает, словно в ожидании ответа. Ему кажется, что тетя изучающе и заинтригованно смотрит на него. Элиса действительно смотрит на юношу, но в ее глазах не любопытство. В действительности она смотрит на него так, как если бы видела впервые. «Господи, — думает Элиса, — как он похож на Амалию, когда ей было пятнадцать лет; если одеть его в платье, в котором была моя сестра, когда ей исполнялось пятнадцать, то это будет не Болтун, а Амалия». Потом Элиса смотрит на Оливеро и трогает его лоб. Она делает это не столько для того, чтобы проверить, нет ли температуры, сколько чтобы поделиться с Оливеро своим наблюдением, сказать ему: «Посмотри на него, это же Амалия».