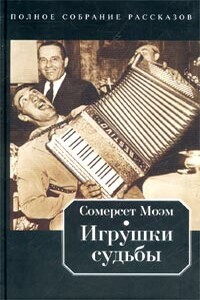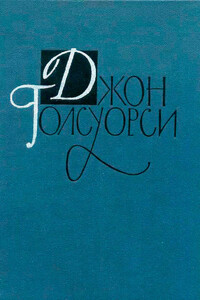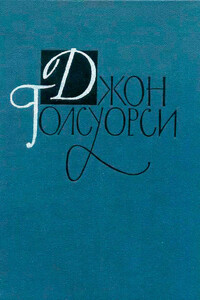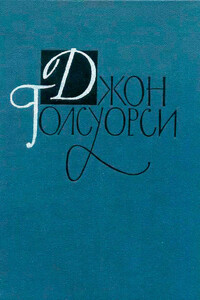Критика может привлечь общее внимание к самому заурядному сочинителю, публика может потерять голову от полной бездари, но в обоих случаях это ненадолго; ни одному писателю, будь он лишен ощутимого дарования, не под силу приковывать к себе читательский интерес так долго, как Эдвард Дрифилд. Избранные гнушаются популярности и даже склонны видеть в ней свидетельство посредственности, однако они забывают: потомки выбирают не из неизвестных писателей той или иной эпохи, а из тех, кто приобрел известность. Если случится, что какой-то шедевр, заслуживающий бессмертия, с самого своего рождения выпадет из внимания критики, потомки о нем не услышат; может статься, потомки забракуют все нынешнее, но если сохранят что-то — выберут из бестселлеров. Так или иначе, Эдвард Дрифилд по-прежнему на виду. Его романы нагоняют на меня скуку; по-моему, они затянуты. Мелодраматические приключения, введенные им для того, чтобы подразжечь интерес вялого читателя, оставляют меня холодным; но действительно, он умел быть искренним. В его лучших книгах чувствуешь биение жизни и нельзя не ощутить загадочную личность автора. Первое время его хвалили или ругали за реализм (соответственно склонностям критиков), превознося за правдивость или упрекая за грубость. Но реализм перестал вызывать споры, и теперь посетитель библиотеки запросто преодолевает страницы, перед которыми страсть как робело предыдущее поколение. Просвещенный читатель сих страниц должен помнить большую статью в литературном приложении «Таймс», появившуюся сразу после смерти Дрифилда. Обильно цитируя романы Эдварда Дрифилда, автор статьи сложил поистине гимн красоте. Все читавшие наверняка подпали под обаяние этих плавных фраз, напоминающих торжественную прозу Джереми Тейлора, смиренных и благочестивых, глубоко пережитых, короче говоря, в меру цветистых и без женоподобия сладостных. Да, вот образчик красоты. А если и возразят, что Эдвард Дрифилд не был чужд юмора и несколько острот не повредили бы хвалебной статье, то можно ответить: это как-никак надгробная речь. И к тому же общеизвестно, что Красота не слишком благосклонна к робким заигрываниям Юмора. При встрече со мной Рой Кир сказал о Дрифилде, что, при всех возможных недостатках, их искупает пронизывающая его страницы красота. Теперь, вспоминая нашу беседу, я думаю, что как раз это замечание сильней всего меня обозлило.
Тридцать лет назад в литературных кругах была мода на бога. Вера в него одобрялась, а журналисты применяли имя его, чтоб украсить или уравновесить фразу; потом бог сошел со сцены (как ни странно, вместе с крикетом и пивом), и явился Пан, который на газоне из сотни романов оставил отпечаток своих раздвоенных копыт, — поэтам чудилось, что в сумерки он шныряет по лондонским предместьям, а литературные дамы Суррея и Новой Англии, духовно переменчивые нимфы промышленного века, таинственным образом отдавали свою девственность в его грубые объятья. Но Пан вышел из моды и был замещен красотой. Ее стали находить во фразе, в палтусе, в собаке, в погоде, в картине, в поступке, в платье. Когорты молодых женщин, успевших написать по роману, внушающему надежды и вполне профессиональному, болтают о красоте как угодно, — походя или всерьез, углубленно или умиленно; молодые люди, какое-то время назад покинувшие Оксфорд, но витающие еще в облаках его славы и объясняющие нам в еженедельной прессе, что мы должны думать об искусстве, жизни и вселенной, влачат с завзятой небрежностью это слово по убористым своим страницам. И до крайности его истрепали. Ох, и заставили же поработать! У идеала много названий, красота — лишь одно из них. Мне кажется, сей девиз — не более чем крик отчаяния тех, кто не может приспособиться к нашему героическому веку техники, а их страсть к красоте — не что иное как сентиментальность. Пускай же новое поколение, лучше схватив пульс жизни, будет черпать вдохновение не в бегстве от действительности, а в радостном ее приятии.
Не знаю, как другие, а я вот неспособен подолгу наслаждаться красотой. В поэзии нет более фальшивого заявления, чем первая строка «Эндимиона» Китса. Как только образ красоты передался мне, внимание мое рассеивается, с недоверием слушаю я тех, кто уверяет, будто часами может быть поглощен созерцанием пейзажа в природе или на холсте. Красота — это экстаз; она проста как голод. Ведь о ней говорить нечего. Она как запах розы, который надо обонять, и все тут; оттого и скучна художественная критика, если только она не обходится без рассуждений о красоте и вообще об искусстве. Говоря о Тициановом «Положении во гроб», о картине, которая, пожалуй, обладает наивысшей в мире красотой, критик способен только дать совет пойти и посмотреть ее. Все прочие его слова будут относиться к истории, биографии и чему хотите еще. Но люди прибавляют красоте другие качества — величие, интересность, негу, любовь, потому что красота не может надолго удовлетворить их. Красота совершенна, а совершенство (такова уж человеческая природа) может привлечь лишь мимолетное внимание. Математик, который, посмотрев «Федру», спросил: «А что она доказывает?», был не так глуп, как это принято считать. Не объяснишь, чем дорический храм в Пестуме красивей кружки холодного пива, если только не привлечь соображения совершенно посторонние. Красота — тупик. Она горная вершина, ее можно достичь, но дальше пути не будет. И потому в нашу душу сильнее западает Эль Греко, чем Тициан, нестройный Шекспир — сильнее, чем безупречный Расин. О красоте написано слишком много. Потому я решился чуть-чуть добавить. Красота удовлетворяет наш эстетический инстинкт, а кому хочется удовлетворенности? Это только для тупицы слово «довольно» звучит как праздник. Давайте признаем: красота скучновата.