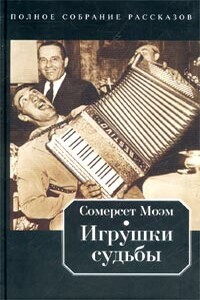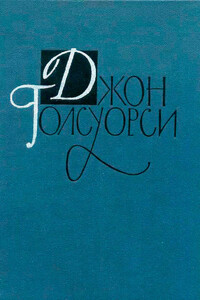— Привет, юноша! — громко обратился он ко мне в особенно неприятной форме. — Опять каникулы, видать.
— Вам видать совершенно верно, — отвечал я, стараясь быть пронзительно саркастичным.
Он, увы, лишь покатился со смеху.
— Такой острый, гляди, сам обрежешься, — сказал он добродушно. — Ну, так нам с тобой не видать вроде бы виста. Знай теперь, что такое жить не по средствам. Всегда говорю своим мальчишкам: имей фунт и трать девятнадцать шиллингов с половиной — будешь богачом. Станешь тратить двадцать плюс шесть пенсов — ты нищий. Пенс, парень, он фунт бережет.
И хоть говорил он в таком тоне, но без неприязни, а с усмешкой, словно в глубине души плевал на эти восхитительные сентенции.
— Говорят, вы помогли им удрать? — промолвил я.
— Кто, я? — На лице его отразилось крайнее удивление, хотя в глазах сверкнуло веселое лукавство. — Да когда услыхал я, что Дрифилды смылись, у меня ноги подкосились: они мне за уголь должны шесть фунтов семнадцать шиллингов с половиной. Все мы в накладе, даже бедняга Галовей, которому так и не досталось пончиков к чаю.
Никогда Лорд Джордж не казался мне столь противным. Хотелось произнести что-нибудь решительное и разящее, но я не придумал ничего и сказал лишь, что мне пора. Еле кивнув, я его покинул.
Вот так в ожидании Олроя Кира ворошил я прошлое и усмехнулся, сопоставив тогдашнее неблаговидное исчезновение Эдварда Дрифилда с его идеальной респектабельностью в последние годы. Может, как раз из-за того, что во времена моей юности окружающие столь низко ценили его как писателя, я так и не заметил за ним выдающихся достоинств, признанных высшими авторитетами критики. Его язык долго считали плохим, и вправду казалось — писал он тупым огрызком карандаша; стиль был деланый и представлял собой несуразную смесь классического с уличным, а диалоги ничем не напоминали что-либо способное исторгнуться из человеческих уст. К концу карьеры, когда он диктовал свои книги, стиль приобрел разговорную легкость, стал плавным и прозрачным; затем критики вернулись к его предыдущим романам и обнаружили в их слоге нервную и терпкую выразительность, которая удивительно точно соответствовала изображаемому. Взлет Дрифилда пришелся на пору общего увлечения цветистыми вставками, и во все антологии английской прозы попали пейзажные зарисовки из его произведений прославленные описания моря, весны в кентских лесах и сумерек в устье Темзы. И следовало бы терзаться тем, что я не могу читать их без натуги.
Во времена моей молодости, хоть книги Дрифилда не пользовались особым спросом, а частью не были дозволены для библиотек, восторгаться им считалось признаком культурности. Его считали завзятым реалистом. Он был хорошей палкой для побиения филистеров. Кто-то по счастливому вдохновению сообразил назвать его моряков и крестьян шекспировскими; передовые ценители, завидя друг друга, издавали восклицания восторга по поводу острого и сочного юмора его простолюдинов. А такой товар Эдвард Дрифилд поставлял в неограниченном количестве. У меня у самого душа уходила в пятки, когда он вел меня в кубрик парусного судна или к трактирной стойке, дабы окунуть в добрый десяток страниц колоритных суждений о жизни, нравах и бессмертии. Должен, однако, добавить, что шекспировские шуты всегда казались мне скучны, а их бесчисленные потомки — просто невыносимы.
Дрифилд по-настоящему силен в описании тех слоев общества, которые хорошо знал — фермеров и батраков, лавочников и трактирщиков, шкиперов, старпомов, коков и бравых матросов. Когда же он переходит к персонажам более высокого социального положения, то, думается, самые доброжелательные поклонники не могут не почувствовать неловкости: его истые джентльмены так невероятно истовы, а высокородные леди — так добры, чисты и благостны, что не удивляешься, если они выражают себя только в величественных словоизвержениях. Женщины у него едва ли походят на реальных. Тут снова следует добавить: это мое личное мнение; подавляющее большинство читателей и самые видные критики согласны в том, что это обаятельнейшие типы английских женщин, возвышенные, утонченные, одухотворенные, — их часто сравнивают с героинями Шекспира. Конечно, мы знаем, что у женщин случаются запоры, но представлять их в литературе напрочь лишенными заднего прохода кажется мне поистине верхом галантности. Меня удивляет, что самим женщинам нравится именно такая трактовка.