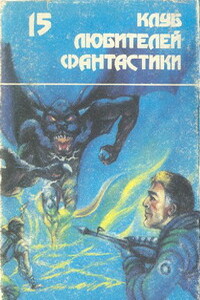Я попятилась, но он схватил меня за руку.
— Если не объяснишь мне свое поведение, то не выйдешь отсюда.
Я попыталась высвободиться.
— Мне больно.
— Какого черта ты добиваешься, Катерина?
— Лучше оставь меня в покое, Семпьони, я не могу открыть тебе ничего такого, чего бы ты не знал. Но я знаю достаточно, чтоб погубить тебя.
Он не разжал руку; судя по ее хватке, я попала в цель.
Но в какую именно цель — я не подозревала, так как действовала вслепую. Я наконец поняла: невозможно допрашивать людей, не задавая конкретных вопросов и не упоминая о том, что побудило меня прийти к ним. Смелость, которую я напустила на себя нынче утром, была всего лишь смелостью отчаяния. Стало быть, я способна только на отчаянные поступки: к примеру, разбить о магнитофон бутылку — ее я и обнаружила у себя в свободной руке, пока вырывалась и пятилась. И сразу выставила вперед.
Он тут же выпустил мою руку, сильно побледнел и не произнес ни слова.
Я тоже больше не раскрыла рта и оставила Семпьони с его вопросами, равно как сама осталась со своими. Я прошла мимо него к выходу, продолжая держать перед собой эту разбитую бутылку. Я пятилась, чтобы не поворачиваться к Семпьони спиной, и старалась не споткнуться, перешагивая через разбросанные по полу вещи. А это было непросто. В трех шагах от двери я наткнулась на стопку видеокассет, которые рухнули с диким грохотом. Семпьони не сдвинулся с места: позеленев от злости, он только провожал меня глазами.
Я назвала себя одержимой кретинкой — и как еще я могу себя охарактеризовать, вспоминая о чувстве триумфа, с которым неслась вниз по этой темной лестнице, с пылающими ушами и щекочущим в ноздрях запахом винных испарений… да-да, именно триумфа по поводу того, что прокрутила магнитофон и держу в руке горлышко разбитой бутылки. Великие деяния, ничего не скажешь!
Я спрятала его в сумку, лишь когда очутилась на улице и прилипла к размягченному и цепкому, точно присоска, асфальту. Туфли держали меня на месте, а сама я рвалась вперед; после третьего шага одна из них все-таки настояла на своем… Чудеса эквилибристики в турецкой бане под открытым небом — я представила себе одобрительные аплодисменты, которые могли послышаться из-за оконных стекол редких островков тени. Я наклонилась, стоя на одной ноге, пошатнулась, сумка соскользнула с плеча и устремилась вниз, последовали страшные раскачивания и наконец финальный пируэт. Я пересекла улицу, не глядя по сторонам, не обращая внимания на гудки и скрип тормозов, прошла три квартала.
Как только я села в машину, тяжело дыша и массируя ноги, мягкие и липкие, точь-в-точь как асфальт, я увидела торчащую за щеткой бумажку, по виду не похожую на штраф. Я вылезла и взяла этот сложенный вчетверо листок белой бумаги. Развернула.
На нем ручкой были аккуратно выведены печатные буквы:
БЛИЗ НИШИ VI ПОКОИТСЯ
НЕЗАБВЕННЫЙ РЫЦАРЬ ЛИНО:
ПОМНИ О СМЕРТИ
По чистой случайности я остановила машину напротив церкви; то есть как раз ничего случайного в этом не было: записка явно туда меня и направляла.
Церковь, расположенная на углу очень оживленной улицы Салариа, представляла собой небольшое прямоугольное здание из белого камня с вкраплениями темных кирпичей и малоизящными круглыми резными окнами. Я вошла, сразу оробев от скрипа двери, который разнесся по всему пустынному помещению, поднявшись до мозаик и драгоценной лепнины. Ряды скамей (числом не более тридцати) были пронумерованы римскими цифрами — слева нечетные, справа четные.
В шестом ряду — около него действительно оказалось какое-то старое надгробье, — в нише, куда обычно кладут требники, я нашла сложенный вчетверо листок, точно такой же, как тот, что держала в руке.
Развернула его, прочла:
вторая анаграмма
ХВАТИТ СМЕТАТЬ, РЫТЬСЯ, НЕ НАДО ОТКРЫТИЙ, СЛАВЫ, ВСЕ БЕЗ ТОЛКУ
Я села и тупо уставилась в написанные слова. Действительно, все без толку… Вторая анаграмма. Значит, и в первой записке была анаграмма? Такие длинные фразы, тут же столько всего… Подавив желание разорвать оба листка, я взяла ручку и блокнот. Пальцы дрожали, я с трудом выстраивала буквы в ряд:
ХВАТИТСМЕТАТЬРЫТЬСЯНЕНАДООТКРЫТИЙСЛАВЫВСЕБЕЗТОЛКУ