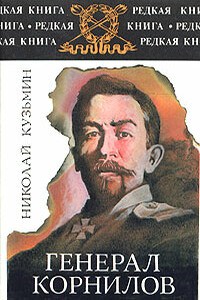— И Покатилову?
Митасов рассмеялся:
— Что вы! Покатилов заперся. Вы же его знаете.
— А инструменты?
— У Игорька такая сумочка. Наточке он коляску починил, мне замок переменил. Так что у меня теперь новый замок! Прекрасный парень.
— Никита дома был?
— А, так об этом-то я вам как раз и хотел сказать! Вы стали говорить, что Наточка на него молится… Слушайте. Ну, как вы сами понимаете, Никита захотел ему помочь. Мужчина же! Лучше бы он не помогал! Ка-ак даст молотком — и прямо ему по пальцу. Машеньке дурно стало, Наточка побежала за йодом. Забинтовали и сели чай пить.
— За таким… — Степан Ильич изобразил руками, — за круглым столом?
— Да, да, вы же знаете… И вот здесь я получил такое удовольствие, что не могу сказать! Я сидел и слушал, как парни спорят. Это очень интересно, уверяю вас. У каждого свой взгляд, своя, если хотите, философия. Почему мы их считаем детьми? Совсем, совсем не дети! Граждане! Мужчины! Вы бы послушали.
— Так будьте же… — попросил Степан Ильич. — Хотя бы коротко.
— Ну, сначала всякие там пустяки. Игорек, кстати, сказал, что любит «Как закалялась сталь». А Никита… сами понимаете: Кафка, Сэлинджер, Роберт Фрост. И все с усмешкой, все через губу. Парень-то он начитанный. Потом о музыке, потом еще о чем-то… кино, театр. А уж потом и об этом… колхозе или совхозе, куда Игорек едет. «Что, — это Никита, — за биографией, говорит, едешь?» Мне даже неловко стало. Наточка ему глазами… А Игорек… та-акой молодец! «Я, говорит, своей биографии не стесняюсь». И так спокойно, с таким достоинством. И — все! Наповал! Потом Наточка мне говорит… к чему я весь разговор-то! «Счастливая, говорит, эта девчонка. Такого парня!» А вы говорите — молится. Она вас еще немножечко стесняется. Она даже мне-то… Не бегать же ей, не жаловаться на зятя на всех углах! Не такой она человек.
Ничего этого Степан Ильич не знал, хотя догадаться обо всем не составляло никакого труда: Наталья Сергеевна терпела зятя ради дочери.
— Не повезло бедной Маше, — сказал он. — Я вспоминаю: какие парни у нас в училище! Да и вообще… Нет же, нарвалась! И Наташе было бы легче.
Сказал и смутился: сорвалось с языка. Так интимно он не называл ее даже в мыслях. Митасов, словно не расслышав, удрученно смотрел себе под ноги, на сетку с посудой. Щечки его обвисли.
— Может, жизнь его научит? — спросил Степан Ильич.
Задумавшийся интендант встрепенулся:
— Никиту? О, еще как! Уверяю вас. — Он вдруг лукаво скосил свои маленькие глазки на подполковника. — Вы думаете, эти молодые люди не будут стариками? Будут. Вся разница сейчас в том, что мы с вами помним свою молодость, а они своей старости еще не знают.
Забирая сетку с бутылками, он стал подниматься со скамейки. Степан Ильич несмело удержал его:
— Вы понимаете… Мне неловко, но я хочу попросить вас. Вы не обидитесь? Для меня это очень важно. Честное слово!
Митасов сразу сделался серьезным.
— Говорите. Говорите же!
Просьба подполковника была: найти возможность сообщить Наталье Сергеевне, что он здесь сидит и ждет.
— У нее сейчас должны все спать после обеда. Ей ничего не стоит… на минутку…
— Сидите, — заявил Митасов, проникаясь важностью поручения. — Я сейчас.
«Придет, не придет?» — гадал Степан Ильич, сплетая пальцы. На тыльной стороне ладони он заметил какое-то коричневое пятнышко и машинально потер его. Не оттиралось. «Гречка». У Митасова, он заметил, все руки были в «гречке». Да, кажется, и у Барашкова… «Звонок? Звонок оттуда?» Поворачивая перед глазами руку так и эдак, он обнаружил еще одно пятнышко, еще, и ему стало грустно. Вот он сидит и более всего боится, что Наталье Сергеевне почему-либо не удастся выбраться из дома, а между тем… Ох это «между тем»!
Думал ли он о смерти? Не часто, но думал. Страшила ли она его? Вот тут было сложнее. Разумеется, когда она придет, он не испугается и встретит ее как надо. Однако так он думал раньше. Со времени путешествия прежней простоты не стало, возникла боязнь потерять все, что появилось, а появилось у него так много, что он все чаще упрекал себя: зачем, ну зачем столько времени он прожил так неинтересно, пусто, серо? Времени, потерянного времени, которого теперь уж не вернуть, — вот чего было жаль! Где-то он читал, что старость страшна не тем, что человек стареет, а тем, что остается молодым. Сейчас, прислушиваясь к ощущениям в себе, он соглашался с этим: правильно. Старость — возраст, требующий от человека мужества. Живешь уже не так, как хочется. Разве не хочется иногда повиснуть и подтянуться на ветке дерева, свистнуть в пальцы, запрыгать на одной ноге, пиная камешек? Но взглянешь вокруг себя и устыдишься: неловко. Старым привыкаешь быть, оглядываясь на молодых. Но если прыгать, пиная камешек, неловко, совестно, то отчего же совестно любить? Разве оттого, что прибавилось морщин и седины, стал менее упругим шаг? Нет, в человеке до самой смерти все противится тому, чтобы не жить, а доживать!