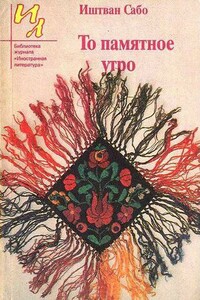Тренькнул телефон. Кочешкова скосила взгляд и подумала, что в такие хоромы аппарат могли бы поставить и подороже. Телефон тренькнул вновь. Кочешкова взяла трубку, прошла в спальню, легла на постель.
— Да, — произнесла она, пытаясь единым взором охватить потолочную лепнину: битва титанов с богами-олимпийцами, груди богинь, маленькие, торчливые пипки титанов. — Да...
Звонил портье. Он, заискивая, спрашивал — не ждет ли леди звонка? Кочешкова провела трубкой по ровному ворсу волос на лобке. Звонка? Ждет ли она? И да, и нет. Нет — потому, что ей никто звонить не должен, да — потому что она бы очень хотела, чтобы кто-нибудь ей позвонил.
— Да, — ответила Кочешкова. — Yes, я жду звонка. I’m waiting for...
— Соединяю! — мурлыкнул портье.
В трубке что-то журчало, далекий сигнал прерывисто гукал. Кочешкова смотрела на пипку парящего над огромной кроватью титана, на дутые мускулы его длиннющих ног, на его безволосую грудь и думала — кто ей звонит, кто знает, что она здесь, в этом отеле?
— Алло! — нетерпеливо произнесла Кочешкова. — Кто это? Who is this?
— Здравствуй, радость моя! — услышала она в ответ. — С трудом тебя нашел!
— Радость? — как эхо повторила Кочешкова. — Что значит «нашел»?
— А то и значит! — сказали в трубке, и в ее номер, в самый дорогой номер одного из самых дорогих отелей прекрасной Женевы, вошел здоровенный мужик в мятых штанах и видавшем виды пиджаке, с вылезавшей из-под расстегнутой сверху рубашки цепью желтого металла. Тебеньков! Сам! С трубкой мобильного телефона.
— Ну, здравствуй! — тихо закрывая за собой дверь сказал Тебеньков еще в трубку. — Где ты, моя киса? Плещешься в ванной?
— Нет, я в спальне, — сказала наивная Кочешкова. — Кто это, еб вашу мать?!
— Привет! — Тебеньков воздвигся в дверях спальни. — Не ждала, дочка? Не ждала!
Он, мягко ступая плоскостопными ногами по высокому ворсу ковра, прошел от дверей к кровати, сложил мобильный телефон, сунул его в задний карман штанов. Кочешкова запахнула халат, сглотнула ком в горле, поползла по кровати, уперлась головой в высокую, обитую шелком спинку. Тебеньков бочком присел на краешек кровати и улыбнулся. Его улыбка была не менее страшна, чем был страшен звук напрягшейся мускулатуры покойного Кынтикова.
— Меня, милая, в детстве учили делиться, — сказал Тебеньков. — То, что я в детстве узнал, то для меня самое ценное. Все остальное — говно! Правильно?
— Правильно, — кивнула Кочешкова.
— Вот, — Тебеньков взял Кочешкову за щиколотку и легонько сдавил. — Вот я и говорю! А ты, лапка, свалила и решила все взять себе. Так, кроха, не ходят. За такие дела можно получить девять граммов. Или — восемнадцать! Ха-ха...
Говоря это, Тебеньков медленно поднимал ногу Кочешковой выше и выше. Когда ему стало неловко держать свою руку поднятой вверх, он чуть приподнялся и почти оторвал тело Кочешковой от кровати. Ее голова запрокинулась, руками она судорожно ловила опору, ее свободная нога выписывала немыслимые движения, словно живя от Кочешковой отдельно, лоно ее, увлажненное страхом, разъялось.
— Ты, цветик мой, взяла из банка деньги покойника. Понимаю! Но они принадлежат не тебе, а мне. Я ему позволил их заработать, я ему создал для этого условия, — Тебеньков еще чуть-чуть поднял Кочешкову, высунул длинный, пупырчатый, подвижный язык и пару раз прошелся им по заалевшему кочешковскому нутру.
— Так что, овечка, говори — где? — и тебе ничего не будет, а не скажешь — я тебя сожру, разорву, высосу! Поняла? — он еще раз прошелся языком по Кочешковой и отшвырнул ее от себя.
Судорожно двигая конечностями, Кочешкова упала на кровать, пружины подбросили ее кверху, она попыталась встать на ноги, но коварные пружины вновь толкнули ее и она упала с кровати на пол, по другую сторону от Тебенькова. Чемоданчик стоял под кроватью. Его замки тускло поблескивали. Далее, за чемоданчиком, уже на полоске света, располагались туфли Тебенькова. Голос его, ненавистная гнусятина вонючего пахана, шла сверху, придавливала, распластывала, уничтожала.
— Ты себе и представить не можешь, цыпочка моя, что мне пришлось пережить, — говорил Тебеньков. — Какие унижения! Я им платил, я их кормил и поил, а они, стоило мне чуть сдать назад, вдули мне по самое некуда, да еще провернули! Тут еще ты, трясогузочка, с твоими корольками! Мамой клянусь — то, что вынес я, не вынесет никто другой!