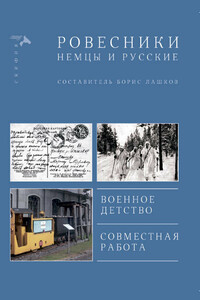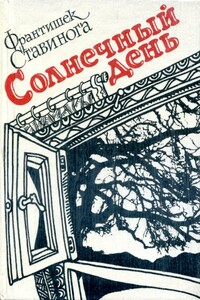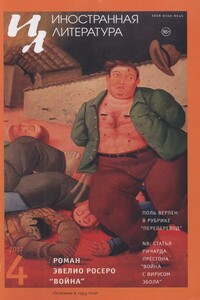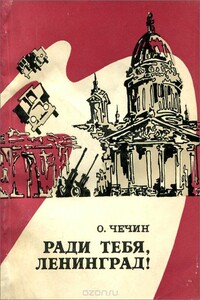С Катей он познакомился, уже будучи солдатом. Она работала на фабрике. Ее старшего брата изувечили полицейские, отец, арестованный во время стачек тысяча девятьсот пятого года, погиб на каторге вблизи Минусинска, ее мать Васена укрывала политических, прятала подпольную литературу…
Мазурин был уверен, что Тоня почувствует себя в этой семье как дома.
Закончив писать, он передал конверт Кате:
— Сама опусти!
Катя молча кивнула. Она знала, что это очередное мазуринское письмо заключало в себе больше чем весточку родным…
…Несколько дней спустя Тоня устроилась на фабрике. Когда, в отсутствие Максимова, она пришла на его квартиру за своими вещами, денщик Онуфрий грустно сказал ей:
— Счастливая ты, Тоня, улетела! А мне еще год страдать…
1
Капитан Вернер проснулся. Он лежал голым на огромной медвежьей шкуре, покрытой простыней, и внимательно рассматривал свое большое мускулистое тело, поросшее рыжеватыми волосами. Сладко потянувшись, он позвал:
— Иванков!
Вбежал денщик — белокурый, но с узкими, монгольскими глазами и с короткими, не по росту, руками. По всей его напряженной фигуре, по застывшему лицу и прилипшим к бедрам рукам было видно, что он до ужаса боится Вернера.
— Массаж! — приказал капитан.
Иванков вышел и сейчас же вернулся без гимнастерки, с засученными рукавами рубахи, с банкой вазелина. Капитан вытянул ногу, уперся ею в живот денщика, и тот старательно начал втирать вазелин в кожу, разминал мышцы, хлопал по ним ладонями. Закончив массировать одну ногу, он осторожно опустил ее и взялся за другую. А когда Вернер улегся на живот, подставив массажисту спину, Иванков стиснул зубы, с отвращением глядя на капитана.
Он уже полгода служил у Вернера. И, несмотря на животный страх перед ним, попросил однажды отчислить его в роту. Вернер отказал. Тогда Иванков по команде подал о том же просьбу командиру полка. Вернер, узнав, не упрекал его за это. Он только смотрел на него пустыми, холодными глазами и усмехался. И этот взгляд был так страшен, что Иванкова пробирала дрожь. Часто капитан будил его ночью и приказывал подать папиросы, лежащие тут же, под рукой, или налить вина из бутылки, стоящей на низеньком столике у постели. Власть Вернера над солдатом была беспредельна, убийственна, и денщик знал, что всякое сопротивление приведет только к гибели. И тем не менее он всеми силами пытался вырваться из-под власти капитана, но все напрасно. Вернер издевательски говорил ему:
— Никуда не отпущу. Прослужишь у меня весь срок службы.
После массажа капитан напился чаю, оделся и ушел в роту. Шагал огромный, прямой, гордясь своей прусской выправкой, ставил ногу во весь след.
Он обошел выстроившуюся роту, вглядываясь в каждого солдата, будто гипнотизируя его. Как обычно, остановился перед Орлинским, приказал ему выйти из рядов, осмотрел его с ног до головы. Потом, как бы забыв о нем, заговорил с фельдфебелем, но все время следил за Орлинским скошенным, охотничьим глазом. И когда Орлинский шевельнулся, Вернер неожиданно легко для своего тяжелого тела обернулся и мягко спросил:
— Ты что же это шевелишься в строю? Разве можно?..
Орлинский замер, точно почувствовав над собой невидимые хищные когти.
— Проверим, как вы знаете устав, — говорил Вернер, расхаживая перед фронтом. — Скажи мне, Ерлинский, — он нарочно коверкал его фамилию, — имеешь ли ты право идти в театр?
— Так точно, ваше высокоблагородие.
— А не врешь? Во-первых, без разрешения, не можешь. Не все спектакли дозволено смотреть солдату. А во-вторых, на какие места тебе можно идти?
Орлинский промолчал.
— На галерку, понятно? Потому что в кресла ходят только благородные люди, и в том числе — господа офицеры. А как будешь держать себя во время антракта?
— Выйду или останусь на месте, ваше высокоблагородие! — задыхаясь, ответил Орлинский.
— Врешь, Ерлинский. На месте тебе нельзя сидеть во время антракта. Ты обязан встать и столбом торчать до начала действия. Понятно?
И, глядя на роту замораживающими глазами, Вернер говорил, отчеканивая каждое слово:
— Вы не имеете права курить на улице, ездить в трамваях и в вагонах первого и второго классов. Не имеете права ходить в городской сад, когда там музыка. Кто ответит — почему? Отвечай ты, Ермилов.