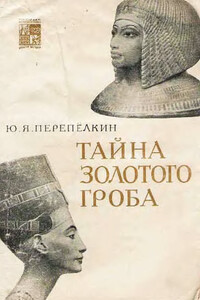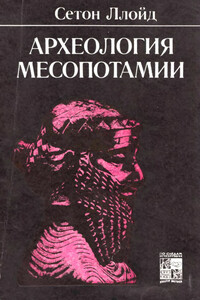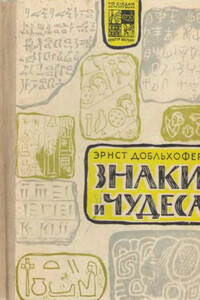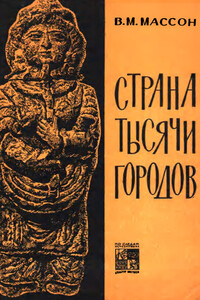Город раскинулся на склоне горы между двумя скальными отрогами, ниже окружающих его вершин, от которых он с трех сторон отрезан глубокими ущельями (рис. 4). Таким образом, на западе, юге и востоке город защищают долины Еннома и Кедрова. С севера же Иерусалим сравнительно беззащитен, и враги нападали на него всегда именно отсюда. Естественно, что оборонительные сооружения северного района являлись предметом особых забот правителей. К тому же город расширялся в единственно возможном направлении, т. е. на север, и поэтому линия укреплений все время совершенствовалась и перестраивалась.
Третья крупная долина, ныне едва заметная, делила город наискосок на две части по линии северо-запад — юго-восток, соединяясь с долиной Еннома у самого места слияния последнего с Кедроном. Древнееврейское название этой долины оставалось до последнего времени неизвестным — вероятно потому, что оно ни разу не встречается в Ветхом завете. Теперь же, благодаря нашему свитку, мы знаем, что ее называли «Внешняя долина» (см. ниже, стр. 86–93), а странное наименование «Долина сыроделов», под которым она известна Иосифу Флавию (долина Туrороеоп), лишь результат неверного истолкования древнееврейского слова.
Примерно на середине пути Внешняя долина (она расположена «вне» старинного города иебуситов[61] на юго-восточном холме) соединялась с другой, почти перпендикулярной к ней, делившей западный гребень надвое. Поскольку ее первоначальное название неизвестно, она обычно называется «Пересекающая долина».
Некоторое значение с точки зрения топографии города имеет и еще одна, меньшая лощина, спускавшаяся от северо-восточного угла города и затем поворачивавшая к востоку, где, приблизительно в 100 ярдах к югу от ворот св. Стефана, она сливалась с долиной Кедрона. Ее принято называть долиной св. Анны, так как севернее Харама — священной местности мусульман, она проходит вдоль церкви св. Анны.
Естественные преграды делили территорию города на четыре возвышенных участка, наибольшим из которых был юго-западный. Именно этот участок, во всяком случае с I века н. э., идентифицировался с древним Сионом. На самом же деле, по свидетельству литературных источников, подтвержденному данными археологии, древний город иебуситов, позднее «город Давида», находился в южной части восточного гребня. К тому же не менее достоверно, что к северу от этого места, на территории, ныне занятой несколько приподнятой и разровненной площадкой Харама, находился древний Храм. Здесь возводили свои святилища Соломон, Зеруббавель[62] и Ирод Великий, и сюда, гораздо больше, чем в какой-либо иной район, ведут нас наши исследования.
Севернее храмового холма, отделенная от него небольшой, с обрывистыми краями лощиной, располагается еще одна возвышенность — район городского квартала, названного Иосифом Флавием Новым городом. Северо-восточный холм выше храмового (разделяющая их лощина переходит к западу в вырубленный в скале искусственный ров), но и над этим холмом господствовала некогда большая крепость «Антония», сыгравшая столь важную роль в защите, а затем и разрушении города и его Храма (рис. 5).
Возможно, к крепости, точнее к расположенной под ней двойной цистерне, имеет прямое отношение один из пунктов нашего медного свитка. Скудное описание, которое дает текст, не позволяет, к сожалению, рассматривать указанную идентификацию как несомненную, однако совершенно неожиданно это описание может оказать известную услугу при попытке решить старую проблему, связанную с пресловутой крепостью. В пункте 56 описи читаем:
«В Доме (двух?) водоемов, в водоеме, как войдешь в него из его отстойных бассейнов; сосуды для (…) десятины, непригодной десятины (и) внутри их монеты с изображениями».
В тексте не ясно, употребил ли писец слово со значением «водоемы», т. е. определение к имени «дом» (или «место»), в двойственном числе («два водоема») или ж во множественном числе («несколько водоемов»). Я склонен считать, что контекст свидетельствует в пользу двойственного числа, однако в любом случае речь далее идет об одном из водоемов, питающемся от серии отстойных резервуаров или бассейнов (см. прим. 282). Служащий для его обозначения древнееврейский термин и его арамейский эквивалент дают нам в руки нить к решению многочисленных вопросов, связанных с сообщением Иосифа Флавия о нападении римских легионов на «Антонию». Они, говорит Флавий в одном месте, воздвигли вал «напротив середины водоема под названием Струтион» (ИВ V, 11, 4; § 467). Но единственным водоемом в этом районе, который хоть как-то может быть привязан к контексту, является большая двойная цистерна, ориентированная под углом (по оси северо-северо-запад — юг-юго-восток) к крепости и расположенная непосредственно под ней. Сегодня в нее можно проникнуть через кухни монастыря Сестер сионских (рис. 5).