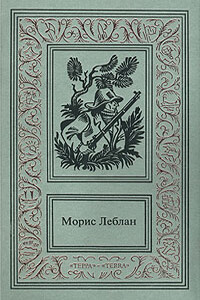Это было очень легко сделать, потому что он жил совершенно открыто. Никогда он не затворял дверей, не принимал посетителей. Его жизнь протекала с механической правильностью. После полудня он отправлялся в парламент, вечером — в клуб.
— И все-таки тут есть что-то темное, — говорил Люпен.
— Ровно ничего, — стонала Виктория, — ты только теряешь время, и нас поймают.
Присутствие сыщиков, которые постоянно шныряли под окнами, сводило ее с ума. Она не могла допустить, что они здесь не для того, чтобы поймать в ловушку ее, Викторию. И каждый раз она очень удивлялась, что кто-нибудь из них не останавливал ее.
Однажды она вернулась очень взволнованная. Корзинка дрожала в ее руках.
— Что с тобой, милая Виктория? — спросил Люпен. — Ты вся позеленела.
— Позеленеешь! Есть от чего.
Ей пришлось сесть, и только после большого усилия она способна была проговорить:
— Какой-то человек… остановил меня в бакалейной.
— Черт возьми! Он хотел тебя задержать?
— Нет, он мне сунул письмо.
— И ты еще жалуешься! Должно быть, признание в любви?
— Нет… «Это для вашего патрона», — сказал он. — «Для патрона?» — спросила я. — «Да, для того господина, который живет в вашей комнате».
— Гм!
На этот раз Люпен вздрогнул.
— Давай письмо, — сказал он, схватив конверт.
На конверте не было никакого адреса.
Но внутри был еще конверт, на котором он прочел:
«Господину Арсену Люпену, находящемуся на попечении Виктории».
— Черт возьми! — пробормотал Люпен. — Вот так здорово!
Он разорвал второй конверт. В нем был листок бумаги, на котором крупными буквами было написано:
«Все, что вы делаете, бесполезно и опасно… Бросьте вашу игру».
Виктория испустила стон и упала без чувств. Люпен покраснел до ушей, как если б его самым грубым образом оскорбили. Он испытывал унижение человека, самые секретные намерения которого раскрыты насмешливым противником.
Впрочем, он не проронил ни слова. Виктория принялась за работу, а он весь день не выходил из комнаты и думал.
Ночью он не мог заснуть.
— К чему думать? — беспрестанно повторял он. — Я наткнулся на одну из таких задач, которые не разрешить разумом. Достоверно только то, что я не один замешан в это дело и что между Добреком и полицией есть не только третий вор, которым состою я, но еще и четвертый, который знает меня и ясно понимает мою игру. Кто же этот четвертый вор? Притом не ошибаюсь ли я? И потом… Ну ладно, заснем.
Но он почти всю ночь не мог уснуть.
Около четырех часов утра ему послышался какой-то шум в доме. Он быстро вскочил и увидел сверху, что Добрек спускался с первого этажа и направился в сад.
Минуту спустя депутат, открыв калитку, впустил человека, лицо которого было закрыто воротником шубы, и провел его в свой кабинет.
Предвидя такого рода явления, Люпен принял свои меры. Окна кабинета так же, как и его комнаты, выходили в сад. Он привязал к своему балкону веревочную лестницу, которую тихонько развернул, и спустился по ней до верхнего уровня окон кабинета. Эти окна были закрыты круглыми ставнями, оставляющими маленький полукруглый промежуток. Люпен, хотя и не мог ничего расслышать, но зато видел все, что там происходило. Он сейчас же разглядел, что особа, принятая им за мужчину, была женщиной — еще довольно молодой, хотя в ее волосах уже была седина, красивой, высокой женщиной, прекрасное лицо которой носило на себе следы страдания.
«Где я ее видел?» — думал Люпен. Эти черты, взгляд, лицо были ему знакомы.
Она стояла возле стола и бесстрастно слушала Добрека, который, тоже стоя, ей что-то с большим оживлением рассказывал. Он стоял спиной к Люпену, которому, благодаря зеркалу на противоположной стене, было видно его лицо. Он испугался, когда заметил, какими странными глазами, с каким зверским и диким желанием он смотрел на свою посетительницу.
Она сама, видимо, была этим очень смущена, потому что села и опустила глаза. Добрек наклонился над ней и, казалось, вот-вот обхватит ее своими длинными руками. И вдруг Люпен разглядел крупные слезы на грустном лице женщины. От вида этих слез Добрек, очевидно, совсем потерял голову.
Внезапно он обнял женщину и привлек ее к себе. Она оттолкнула его с ненавистью. И после короткой борьбы, во время которой лицо Добрека было перекошено яростью, оба стояли друг против друга, как два смертельных врага.