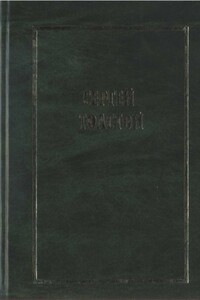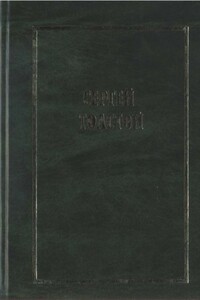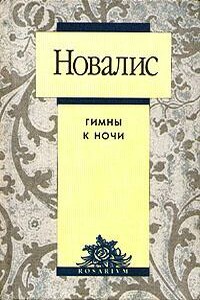— Домнуле капитан, вы поведете меня погулять сегодня вечером после затемнения? — спросила меня Мика, опираясь лицом на свои раскрытые ладони.
— Почему же нет, домничиоара Мика? Очень приятно пойти прогуляться вечером, после затемнения. Вы никогда не ходили в парк ночью? Там никогда не встретишь ни души.
— А в нас не будут стрелять, домнуле капитан?
— Будем надеяться, что да; будем надеяться, что по нас будут стрелять, домниччиоара Мика.
Мика рассмеялась, перегнулась над кассой, приблизила к моему свое лицо, покрытое пушком, и укусила мне губы.
— Зайдите за мной вечером, в семь часов, домнуле капитан. Я буду ждать вас здесь, на улице, перед аптекой.
— Хорошо, Мика, в семь часов. Ла реведере, домничиоара Мика.
Я снова поднялся по Страда Лапушнеану, пересек кладбище и открыл дверь своего дома. Здесь я съел немного брынзы и бросился на постель. Было жарко, мухи настойчиво жужжали. Высокое и сухое жужжание слышалось в небе; жужжание жирное и мягкое, напоминающее густой запах гвоздики, разливалось в небе, обильно смоченном потом. Боже, как мне хотелось спать! Цуика бродила у меня в желудке. Около пяти часов дня я проснулся, вышел на кладбище и сел на каменном надгробии могилы, скрытом в траве. Сад моего дома прежде был кладбищем. Там, где некогда возвышалась небольшая церковь, как раз посреди кладбища, открывался вход в общественное бомбоубежище, куда вела маленькая, очень крутая деревянная лесенка. Вход туда казался входом в подземный мавзолей. В убежище чувствовался запах тления и пыли, жирный запах могилы. Над его кровлей, которой земляная насыпь придавала вид холма, поднималась пирамида надгробных камней, лежавших друг на друге. С того места, где я сидел, мне удалось прочесть могильное напутствие домнуле Григорию Соинеску, доамне Софии Занфиреску и доамне Марии Попянеску, высеченные на надгробиях.
Было жарко. Жажда жгла мне губы; я вдыхал мертвый запах земли, глядя на чугунные решетки, собранные с нескольких могильных участков в тени акаций. Голова моя кружилась, колики тошноты сводили желудок. Ла дракю Мика, ла дракю Мику со всей ее козьей шерстью! Мухи неистово жужжали, влажный ветер доносился с берегов Прута.
Время от времени, со стороны нижних кварталов, на заводской стороне, оттуда, от Сокола и Пакурари, от железнодорожных мастерских Николина, строений, рассеянных по берегам Баклуя, предместий Тцикан и Татарази, где раньше находился татарский квартал, доносились сухие удары винтовочных выстрелов. Румынские солдаты и жандармы — нервный народ. Они кричат: «Стой! Стой!» и стреляют в людей, не оставляя им времени на то, чтобы поднять руки вверх. Между тем, все еще длится день. Затемнение еще не объявлено. Ветер источает медовый запах. Мика будет ждать меня в семь часов перед аптекой. Через полчаса надо идти, захватить Мику и повести ее прогуляться. Ла дракю домниччиоару Мику, ла дракю даже коз! Редкие прохожие жмутся к стенам, с нерешительным видом поднимая над головой свои пропуска, зажатые в правой руке. Действительно, что-то носится в воздухе. Мой друг Кане прав. Что-то должно произойти. Чувствуется приближение какого-то несчастья. Это носится в воздухе, ощущается поверхностью кожи, кончиками пальцев.
Было семь часов — условленное время, когда я подошел к аптеке, Мики там не было. Аптека была закрыта. Мика закрыла ее вовремя сегодня вечером, даже раньше, чем обычно. Я готов был держать пари, что она не придет. В последнюю минуту ей стало страшно. Ла дракю женщин, все они одинаковы. Ла дракю домниччиоару Мику, ла дракю даже коз! Я медленно поднимался обратно по улице в направлении кладбища; группы немецких солдат стучали ботинками по тротуарам. Владелец Люстрагерии — салона для чистки обуви, что на углу страда Лапушнеану, напротив кафе-ресторана Корсо, как раз наносил последним взмахом щетки последний блик на ботинок последнего клиента — румынского солдата, восседавшего на высоком троне из желтой меди. Отблеск угасающего солнца проникал в самую глубину его комнат, заставляя сверкать баночки с ваксой и гуталином. Время от времени мимо проходили группы евреев с кандалами на руках; они шли, опустив головы, в сопровождении румынских солдат, одетых в свою форму песочного цвета. «Чего же ты не пойдешь к нам? Почистил бы напоследок обувку этим беднягам!» — сказал, смеясь, солдат, сидевший на высоком троне из желтой меди. — «Ты что, не видишь, что ли, что они босые?» — ответил владелец Люстрагерии, поворачивая к солдату свое лицо, бледное и влажное. Он тихо дышал; щетка его взлетала с чудесной легкостью. Сквозь окна Жокей-клуба можно было видеть ясскую знать — толстых молдавских джентльменов, с округлыми животами, с тучностью нежной и примиряющей, с лицами безволосыми и надутыми, на которых глаза, темные и пасмурные, блестели блеском влажным и томным. Можно было сказать — персонажи Паскена