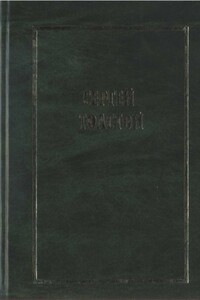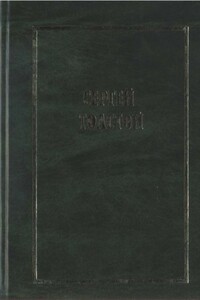Я слушал разговоры сотрапезников с жалостью и отвращением, которые я напрасно старался скрыть, когда Франк, заметив мое смущение и, быть может, затем, чтобы заставить меня разделить с ним его болезненное унижение, повернулся ко мне с иронической улыбкой и спросил: «Вы уже осмотрели гетто, мейн либер[227] Малапарте?»
Я отправился несколькими днями раньше в варшавское гетто. Я переступил границу «запретного города», окруженного высокой стеной красного кирпича, воздвигнутой немцами, чтобы запереть в гетто, словно в клетке, несчастных, одичавших и безоружных. На воротах, охраняемых отрядом эсэсовцев, вооруженных автоматами, было приклеено объявление, подписанное губернатором Фишером, угрожающее смертной казнью всякому еврею, который отважится выйти из гетто. С первых же шагов все было, как в «запретных городах» Кракова, Люблина, Ченстохова. Я был прикован к месту ледяным молчанием, царившим на улицах, битком набитых угрюмым населением, напуганным и одетым в лохмотья. Я пытался пройти через гетто совсем один и обойтись без эскорта агентов Гестапо, один из которых следовал за мной повсюду, словно тень, но требования губернатора Фишера были суровы, и на этот раз мне снова пришлось безропотно сносить общество черного охранника, высокого, белокурого молодого человека с постным лицом и взглядом ясным и холодным. Он был очень красив, с его лбом, высоким и чистым, на который стальная каска бросала темную таинственную тень. Он шел среди евреев, как Ангел бога Израиля.
Тишина была легкой и прозрачной, можно было бы сказать, что она парила в воздухе. Сквозь эту тишину отчетливо слышалось легкое похрустывание тысяч шагов по снегу, подобное зубовному скрежету. Заинтересованные моей формой итальянского офицера, люди поднимали своя бородатые лица и пристально смотрели на меня из-под полузакрытых век глазами, покрасневшими от холода, голода и лихорадочного жара; слезы сверкали на их ресницах и сползали в грязные бороды. Если мне случалось, пробираясь в толпе, задеть кого-либо, я извинялся, говоря: «проше пана», и тот, кого я задел, поднимал голову и смотрел на меня с видом ошеломленным и недоверчивым. Я улыбался и повторял: «проше пана», потому что знал, что моя вежливость была для них чем-то чудесным, что после двух с половиною лет тревоги и отталкивающего рабства это было для них впервые, что вражеский офицер (я не был немецким офицером, я был итальянский офицер, но недоставало еще, чтобы я был немецким офицером, нет, и того было совершенно достаточно) говорит вежливо «проше пана» бедному еврею из варшавского гетто.
Время от времени мне приходилось перешагивать через мертвеца; я шел среди толпы, не видя, куда ставлю свои ноги, и порой я спотыкался над трупом, вытянутым над тротуаром между ритуальными светильниками. Мертвецы лежали, брошенные под снегом, в ожидании, пока повозка «монатти» приедет за ними, но смертность была высокой, повозки немногочисленными, не хватало времени, чтобы увозить их всех, и трупы оставались здесь по несколько дней, вытянувшиеся под снегом между угасшими светильниками. Многие лежали в подъездах домов, в коридорах, на лестничных площадках, или на постелях в комнатах, окруженные бледными и молчаливыми лицами. Бороды их зачастую были покрыты снегом и грязью. Глаза некоторых были раскрыты и смотрели на проходившую мимо толпу, долго следя за ней своим белым взором. Они были несгибаемыми и твердыми; можно, было принять их за статуи из дерева. Мертвые евреи Шагала[228]. Бороды их казались синими на исхудавших лицах, бескровных от холода и смерти; синими синевой столь чистой, что она напоминала синеву известных морских водорослей; синевой столь таинственной, что она напоминала море — эту таинственную синеву моря в известные таинственные часы дня.
Молчание улиц запретного города, это ледяное молчание, сотрясаемое, словно дрожью, этим легким зубовным скрежетом, казалось мне до такой степени давящим, что иногда я начинал громко говорить сам с собой. Все оборачивались ко мне и смотрели на меня с глубоким удивлением, испуганными глазами. Тогда я присмотрелся к глазам этих людей. Почти все мужские лица заросли бородами; несколько побритых лиц, замеченных мною, были ужасны — так обнаженно виднелись на них голод и отчаяние. Лица юношей покрывал вьющийся пушок, рыжевший или черневший на восковой коже. Лица женщин и детей казались изготовленными из папье-маше. И на всех лицах лежали уже синеватые тени смерти. На этих лицах, цвета серой бумаги или белизны мела, глаза казались странными насекомыми, обшаривающими глубину орбит своими волосатыми лапками, чтобы высосать тот небольшой остаток света, который там еще сохранялся. При моем приближении эти отвратительные насекомые начинали тревожно двигаться и, на мгновение покинув свою добычу, показывались из глубины орбит, точно из логовищ, и испуганно за мной следили. Эти глаза обладали необычайной живостью; одни — воспаленные лихорадкой, другие — влажные и меланхолические. Некоторые из них сверкали зеленоватыми бликами, словно скарабеи