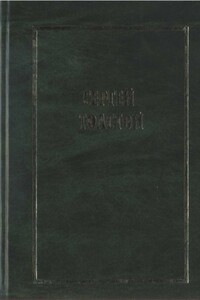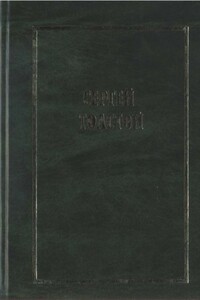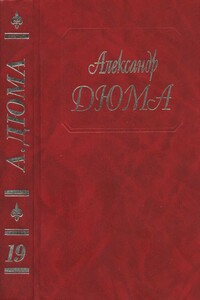— Римская бабочка не такая, как все остальные, — сказала Вирджиния.
Она привезла бабочку из Рима в Берлин на самолете, в картонной коробке, и выпустила ее на свободу в своей спальне. Бабочка стала летать по комнате, потом села на зеркало и оставалась там неподвижно несколько дней, только изредка чуть-чуть двигая своими нежными синими усиками. — Она смотрелась в зеркало, — сказала Вирджиния. Несколько дней спустя, поутру, она нашла ее на стекле зеркала мертвой.
— Она утопилась в зеркале, — сказала баронесса Эдельштам.
— Это история нарцисса, — сказала маркиза Теодоли.
— Вы полагаете, что бабочка утопилась? — спросила Вероника.
— Бабочки любят умирать, — сказала Джозефина фон Штум, понизив голос.
Все стали смеяться. Возмущенный этим глупым смехом, я смотрел на Джозефину.
— Ее убило собственное отражение, собственное отражение в зеркале, — сказала графиня Эмо.
— Я думаю, что как раз отражение-то и умерло в первую очередь, — сказала Вирджиния, — это всегда происходит именно так.
— Ее отражение осталось в зеркале, — сказала баронесса Эдельштам. — Бабочка не умерла, она улетела.
— Бабочка! Это красивое слово — бабочка, — произнес Альфиери своим голосом, глупым и любезным. — Вы заметили, что слово «фарфалла»[576] на французском — мужского рода, а на итальянском — женского. В Италии с дамами очень галантны.
— Вы хотите сказать с «бабочками»? — заметила княгиня фон Т.
— По-немецки «бабочка» тоже мужского рода, — сказал Дорнберг. — «Дер Шметтерлинг»[577]. У нас в Германии стремятся превозносить мужской род.
— Дер Криг[578] — война! — сказала маркиза Теодоли.
— Дер Тод[579] — смерть, — сказала Вирджиния Казарди.
— На греческом «смерть» тоже мужского рода, — сказал Дорнберг. Это — бог Танатос.
— Но по-немецки, — заметил я, — «солнце» женского рода: «ди Зонне»[580]. Нельзя понять историю германского народа, если не учитывать, что это история народа, для которого солнце — женского рода.
— Увы! Возможно вы правы, — сказал Дорнберг.
— В чем это Малапарте прав? — спросила Агата с иронией. — Слово «луна» по-немецки мужского рода: «дер Монд»[581]. В равной мере очень важно, чтобы понять историю немецкого народа.
— Разумеется, — ответил Дорнберг, — это тоже очень важно.
— Все, что только есть таинственного у немцев, — сказал я, — все что только есть у них болезненного, все происходит от женского рода солнца — «ди Зонне».
— Да, мы, к несчастью, народ очень женственный, — заключил Дорнберг.
— Кстати о бабочках, — сказал Альфиери, обращаясь ко мне, — ты, кажется, писал в одной из своих книг, что Гитлер — бабочка?
— Нет, — ответил я, — я писал, что Гитлер — женщина.
Все переглянулись с удивлением, несколько смущенные.
— В самом деле, — сказал Альфиери, — мне кажется абсурдным сравнивать Гитлера с бабочкой.
Все рассмеялись, и Вирджиния заявила:
— Мне никогда не пришло бы в голову положить Гитлера между страницами, чтобы его высушить; между страницами «Майн Кампф», точно бабочку. Очень странная идея.
— Это идея школьника, — сказал Дорнберг, улыбаясь в свою бородку фавна.
То был час «Вердункелюнга»[582]. Чтобы полюбоваться замерзшим Ванзее, сверкающим под луной, Альфиери, вместо того, чтобы приказать закрыть окна шторами, распорядился потушить свечи. Призрачный отблеск луны мало-помалу проник в комнату, распространился по хрусталю, фарфору и серебру, как отдаленная музыка. Мы сидели, внимательные и молчаливые, в серебристой полутьме. Слуги ходили вокруг стола тихими шагами в лунном полумраке, этом прустовском полумраке, который казался отраженным «морем, почти превратившимся в простоквашу и голубоватым, точно снятое молоко». Ночь была прозрачная, без ветерка, неподвижные деревья тянулись к бледному небу, снег искрился, сверкающий и голубоватый.
Мы сидели так довольно долго, глядя на озеро и молча. В этом молчании был тот же горделивый страх, та же тревога, которые я заметил в смехе и голосах молодых немецких женщин.
— Это слишком прекрасно, — сказала вдруг Вероника, резко поднимаясь, — я не люблю грустить.
Мы последовали за ней в гостиную, залитую светом, и вечер еще долго продолжался в приятных разговорах. Джозефина подошла и села возле меня. Я заметил, что была минута, когда она хотела со мной заговорить. Она смотрела на меня несколько мгновений, потом встала и вышла из комнаты. Больше я не видел ее в этот вечер. Я думал, что она уехала, потому что мне показалось, что я слышал скрип колес по снегу и шум удаляющегося автомобиля. Было уже два часа ночи, когда мы покинули Альфиери и Ванзее. Чтобы вернуться в Берлин, я сел в ту же машину, где сидели Агата и Вероника. Пока мы ехали по автостраде, я спросил у Вероники, хорошо ли она знает Джозефину фон Штум.