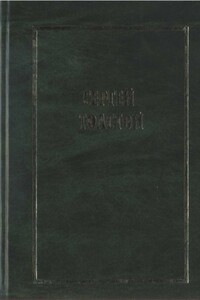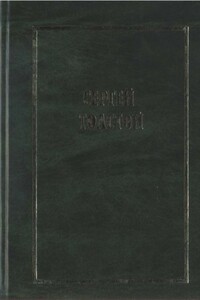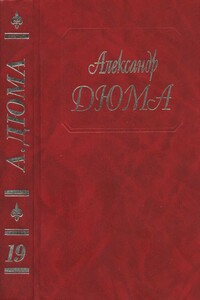Собрание сочинений в пяти томах (шести книгах). Т.5 - страница 153
Наступил момент, когда Джозефина фон Штум сказала мне: «Я уже приехала, всего хорошего!». Это была не та станция, до которой я ехал. Мне надо было выходить дальше, у Кайзерхофа, но я поднялся с ней вместе, взял ее тяжелую сумку и сказал: «Разрешите мне вас проводить?» Мы поднялись по лестнице, вышли из метро и прошли несколькими уже темными улицами. Грязный снег скрипел под нашими ногами. Мы поднялись на лифте на третий этаж. Перед своей дверью Джозефина спросила: «Может быть вы зайдете?» Но я знал, что ей нужно готовить обед для ее маленькой дочки, накормить младенца, убрать квартиру… — «Мерси, — ответил я, — мне нужно идти, у меня важное деловое свидание. Если вы позволите, я зайду в другой раз, тогда мы сможем поговорить…» Я хотел сказать ей: «мы поговорим об Италии», но не сказал этого, быть может из стыдливости, быть может также потому, что мне показалось жестоким говорить ей об Италии. И потом… кто знает, существовала ли Италия в действительности. Быть может Италия была только сказкой, сном? Кто мог знать существует ли еще Италия? Ничего отныне более не существовало. Ничего, кроме мрачной, черной, жестокой, горделивой и безнадежной Германии. Ничего иного не существовало отныне. «Италия? Ах, да, да!» Я спустился по лестнице, смеясь, потому что я не был вполне уверен в эту минуту, что Италия на самом деле существует. Я спустился по лестнице, смеясь, и, очутившись на улице, плюнул на грязный снег: «Ах, да, да, Италия, — произнес я громко. — Ах, да, да!»
Несколькими месяцами позже, по возвращении моем из Финляндии, я остановился на два дня в Берлине. У меня не было транзитной визы, как обычно. Мне не было разрешено, как обычно, остановиться в Германии более чем на два дня. Вечером, на вилле Ванзее, когда посол Альфиери сказал мне в конце обеда своим голосом, любезным и глупым, что Джозефина фон Штум выбросилась из окна, я ни в малой мере не испытал ни чувства удивления, ни сострадания. Это было для меня горем, отмеченным старой датой; уже целые месяцы я знал, что Джозефина фон Штум выбросилась из окна. Я знал это с того вечера, когда, смеясь, спустился по лестнице, громко восклицая: «Ах, да, да, Италия!»
И я тогда еще плюнул на грязный снег: «Ах, да, да, Италия!»
XV. ДЕВУШКИ ИЗ СОРОК[586]
— О! Как трудно быть женщиной! — сказала Луиза.
— А барон Браун фон Штум, посол, — спросила Ильза, — когда он узнал о смерти своей жены…
— Он и не шевельнулся. Только слегка покраснел и сказал: «Heil Hitler!»
В это утро он, как обычно, председательствовал на очередной пресс-конференции в Министерстве Иностранных дел. Он казался вполне безмятежным. Ни одна немка не присутствовала на погребении Джозефины, не были даже жены коллег барона фон Штума — посла. Кортеж был очень немногочисленным и состоял лишь из нескольких берлинских итальянок, группы итальянских рабочих из организации Тодта и нескольких чиновников итальянского посольства. Джозефина не была достойна сожаления немцев. Жены немецких дипломатов гордятся страданиями, нищетой и лишениями немецкого народа. Немки, жены немецких дипломатов не выбрасываются из окон, не кончают самоубийством. Heil Hitler Барон Браун фон Штум, посол, следовал за гробом в форме гитлеровского дипломата время от времени он бросал вокруг подозрительный взгляд, время от времени он краснел. Ему было стыдно, что его жена (ах! это была итальянка, на которой он женился!) не имела силы противостоять страданиям немецкого народа.
— Иногда мне стыдно того, что я женщина, — сказала Луиза тихо.
— Почему, Луиза? Разрешите мне рассказать вам историю девушек из Сорок, — сказал я, — из Сорок на Днестре, в Бессарабии. Это были бедные молодые еврейские девушки, которые убегали в поля и леса, чтобы скрыться и не попасть в руки немцев. Поля пшеницы и леса Бессарабии были полны молодыми еврейками, которые прятались там, оттого, что боялись немцев, боялись их рук.
Они не боялись их лиц, их ужасных хриплых голосов, их голубых глаз, их широких тяжелых ступней, их автоматов, но только их рук. Когда колонна немецких солдат шла по краю дороги, молодые еврейки, укрывшиеся в пшенице или за стволами акаций, тряслись от ужаса. Если одна из них начинала плакать, кричать, ее товарки зажимали ей рот руками или затыкали ей рот соломой, но девушка, рыча, сопротивлялась — она боялась немецких рук, она уже чувствовала под своей юбкой эти немецкие руки, гладкие и твердые, она уже ощущала эти железные пальцы, проникающие в ее тайную плоть. Молодые девушки дни за днями жили, укрываясь в полях, среди пшеницы, и спали в своих лохмотьях среди высоких золотых колосьев, словно в горячем лесу золотых деревьев; они шевелились очень осторожно, чтобы колосья не колебались. Когда немцы замечали, что колосья колеблются в безветренные часы, они говорили: