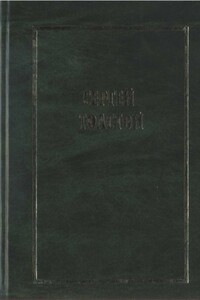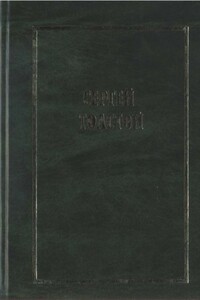— Знаете ли, о чем я думала, присутствуя на танце этой молодой американки? — сказала мне принцесса. — Я думала, что ее движения не были чистыми. Я не хочу этим сказать, что они были чувственны или что им недоставало стыдливости, я хочу сказать, что они были горделивыми. Они не были чистыми. Я задаю себе вопрос, почему сегодня так трудно оставаться чистым. Не кажется ли вам, что нам следовало бы быть более смиренными?
— Я подозреваю, — ответил я, — что танцы этой молодой американки послужили вам только предлогом. Быть может, вы думали о чем-то другом?
Да, может быть, я думала о другом, — сказала она. Она на мгновение умолкла, затем повторила: «Не кажется ли вам, что мы должны бы были быть более смиренными?»
— Нам следовало бы иметь больше достоинства, — ответил я, — больше уважения к самим себе. Но, быть может, вы правы. Только смирение может поднять нас из того унизительного положения, в которое мы впали.
— Может быть, именно это я и хотела сказать, — продолжала принцесса, опуская голову. — Мы больны гордостью, а гордость бесполезна, когда нужно поднять нас из унижения. Наши поступки и мысли нечисты, — и она добавила, что несколькими месяцами ранее, когда она организовала исполнение в королевском дворце Турина «Орфея» Монтеверди[75] для ограниченного круга друзей и знатоков, ее в последний момент охватило чувство стыда. Ей показалось, что ее намерение не было чистым. Ей показалось, что она совершила это только из гордости.
— Я тоже был в королевском дворце, — сказал я, — и я чувствовал себя не в духе, сам не знаю почему. Быть может оттого, что сегодня даже Монтеверди детонирует в Италии. Но мне жаль, что вы растрачиваете вашу совесть из-за вещей, которые не оказывают ничего, кроме чести вашему уму и вкусу, когда на свете столько других, за которые мы все должны краснеть, и вы тоже.
Принцесса Пьемонтская, казалось, была очень смущена моими словами, и я видел, что она слегка покраснела. Я почувствовал некоторое угрызение совести оттого, что говорил с ней таким образом. Я боялся, что оскорбил ее. Но спустя минуту она любезно сказала мне, что как-нибудь поутру, может быть завтра, она поднимется на Венце, чтобы посетить могилу Лоуренса («Любовник леди Чаттерлей» всеми читался и обсуждался в то время), и я рассказал ей о своем последнем посещении Лоуренса.
Когда я приехал в Венце, уже наступила ночь. Кладбище было закрыто. Сторож спал и отказывался подняться, заявляя, что «кладбища по ночам должны спать». Тогда, прижавшись лицом к прутьям решетки, я попытался рассмотреть в ночи, посеребренной луной, скромное и простое погребение, с грубой мозаикой из цветных камней, изображающей феникса — бессмертную птицу, которую Лоуренс пожелал иметь на своей могиле.
— Вы считаете, что Лоуренс был чистым человеком? — спросила принцесса Пьемонтская.
— Это был свободный человек, — ответил я.
Позднее, прощаясь со мной, принцесса Пьемонтская, с удивившим меня грустным выражением, сказала:
— Почему вы не возвращаетесь в Италию? Не примите моих слов за упрек. Это совет друга.
Двумя годами позже я возвратился в Италию и был арестован, заключен в одиночной камере «Реджина Коэли», осужден без суда и приговорен к пяти годам ссылки. В тюрьме я думал, что принцесса Пьемонтская уже в то время была одержима глубокой тоской всего итальянского народа, что она была унижена нашим всеобщим рабством, и я был благодарен ей за печальное, почти сердечное выражение, которое уловил тогда в ее словах.
В последний раз я встретил ее в Неаполе, не так давно, на вокзале, тотчас же после бомбардировки. Раненые лежали на уставленных рядами носилках в ожидании автомашин из лазарета. Лицо принцессы Пьемонтской было смертельно бледным от тревоги, но и не только от тревоги, а еще от чего-то более глубокого и скрытого. Она похудела, глаза ее были окаймлены чернотой, виски расцвечены белой татуировкой морщинок. Отныне этот чистый блеск, освещавший ее лицо, когда она впервые приехала в Турин, спустя несколько дней после своей свадьбы с принцем Гумберто, угас. Она стала более медлительной, более угловатой, казалась странно постаревшей. Она узнала меня, остановилась, чтобы со мной поздороваться, и спросила, с какого фронта я приехал.