— А кто вам об этом сказал?
— Вот именно: кто? — усмехнувшись, спросил Мошкарев. — Или сама придумала? Придет же такое в голову!
— Один человек сказал. — Верочка искрящимися, просящими глазами смотрела на Холмова, ждала ответа, не видя мужа и не слыша его слов. — Вы только скажите, это правда?
— Да, правда, — ответил Холмов.
— Ой, как это удивительно! — воскликнула Верочка. — И не думала, что вы любите музыку!
— Почему же не думала?
— Вот именно: почему? — спросил Мошкарев.
— Вы такой человек — и играете на баяне? Даже странно!
— Что же тут странного?
— Вот именно: что? — поддержал Мошкарев.
— Видите ли, Верочка, я играю весьма посредственно, без нот, по слуху, — как бы оправдываясь, ответил Холмов.
— Это ничего, что без нот! Значит, я могу спеть под баян? — вдруг радостно спросила Верочка. — Я хорошо пою! Особенно современные песенки. Подтверди, Антон!
— Подтверждаю, Алексей Фомич, — нехотя ответил Мошкарев. — Точно, Веруха — первейшая певица. Еще когда выступала в городской самодеятельности, то ей все завидовали.
— Как хорошо петь под баян! — задумчиво говорила Верочка. — И легко петь.
— К сожалению, у меня нет баяна, — сказал Холмов. — Да и, честно говоря, аккомпаниатор из меня никудышный. Вряд ли я смогу.
— Вот именно: вряд ли сможет, — вставил Мошкарев.
— Так это же просто! — уверенно сказала Верочка. — Любую песенку можно быстро разучить. Только вот баяна у вас нет. Как же так? Играете, а баяна не имеете?
— Да вот так. Не довелось приобрести.
— Ну, ладно, ладно, Веруха, хватит с пустяками приставать к человеку, — косясь на жену, сердито сказал Мошкарев. — Получила ответ на свой глупый вопрос и уходи. Дай спокойно побеседовать.
Обиженная, Верочка ушла.
— Ну, Алексей Фомич, принимайся за черешню, — сказал Мошкарев. — На вид бледная, а на вкус — красавица! Как-то лет пять тому назад дружок из Крыма, а точнее, из Симеиза, прислал два деревца. Не знаю, как такой сорт называется по-научному, а по свойски его окрестили «Ранняя радость». Рано созревает…
Черешню Холмов ел с удовольствием, хвалил и за сочность, и за вкус, и за аромат. Косточки и хвостики клал в пепельницу.
— Веруха помешала продолжить мысль, — сказал Мошкарев, тоже кладя черешню в рот. — Так на чем же я остановился?
— На Медянниковой, — напомнил Холмов.
— Да, да, на ней. Только вернее будет сказать: не на Медянниковой, а на ее украшательствах и неуместных в ее положении аполитичных улыбочках, — уточнил Мошкарев. — Как же так можно, Алексей Фомич, райком — это в высшей степени политическое учреждение — превратить в какой-то, извините, цветочный салон? Разумеется, я не мог пройти мимо такого безобразного факта и счел своим долгом коммуниста написать жалобу.
— Зачем же жаловаться? — спросил Холмов, продолжая есть черешню. — Тут, Антон Евсеевич, я с тобою решительно не согласен. Я был в райкоме, видел и красивую мебель, и светлые, чистые комнаты, и ковровые дорожки, и много цветов. Какие же это безобразные факты? Мне такой райком нравится. В нем есть что-то новое, то, что радует.
— Нравится? Новое? — удивился Мошкарев. — Странно это слышать от тебя! Видный партийный деятель, как же такое украшательство могло тебе понравиться? А, к примеру, в твоем кабинете были цветы? И, к примеру, ты улыбался, когда к тебе приходили коммунисты и беспартийные?
— Не было у меня в кабинете цветов, и я редко улыбался, — с грустью в голосе ответил Холмов. — И это плохо! И я, извини, никак не могу понять, что же плохого в том, что в райкоме цветы, а секретарь райкома улыбается коммунистам и беспартийным? Ты даже это назвал безобразным фактом!
— Конечно безобразный! Вот документ! Чтобы не быть голословным, я зачитаю выдержки из своего сигнала, направленного лично первому секретарю ЦК. — Мошкарев взял из коричневого шкафа папку, быстро полистал ее, отыскал нужную бумагу. — Вот копия моего сигнала. Раньше я писал карандашом, под копировку, а теперь пишу на машинке. Техника шагает вперед!.. Ну, преамбулу, короче говоря, общую политическую оценку этого, я снова утверждаю, безобразного факта, я опускаю… Начну вот отсюда, с четвертой страницы: «…хотя, дорогой товарищ первый секретарь ЦК, я могу, допустить, что внешне не только вежливая, улыбающаяся личность секретаря райкома, но и окружающая его обстановка, как-то: мебель, цветы и прочее — тоже имеют на посетителей определенное психологическое воздействие. Но какое? Вредное, разлагающее. Если неглубоко брать вопрос, то в какой-то мере правильно и то, что красивая мебель, ковровые дорожки, цветы как летом, так и зимой украшают облик руководителя. Но как? Исключительно с безыдейной стороны. И тут встает главный вопрос: а не рано ли мы в погоне за эдакой показной демократией встали на путь попустительства и внешнего украшательства? И всегда ли и везде ли, где надо и где не надо, мебель и цветы играют для жалобщиков облагораживающую роль? И верно ли то, что попустительство под видом демократии дает человеку идейную закваску? Тем более в делах политических? Отвечаю: отнюдь нет и нет! Как нам известно из художественной литературы, цветы, красивая мебель всегда в прошлом играли положительную роль в женской, извините, „политике“ в кавычках, а также в будуарах молодых графинь. Мы же воспитываем, извините, не графинь и, извините, не женских кокоток, а, короче говоря, нашу целеустремленную, героическую молодежь. И снова встает вопрос: могут ли в наше время те же цветы и та же шикарная мебель, которые служили для буржуазии предметом роскоши, всегда и повседневно быть нужными, как воздух, в стенах райкома? Отвечаю резко отрицательно: нет и нет!»
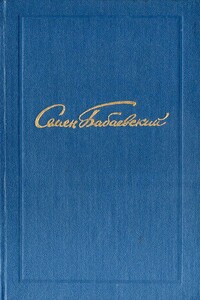
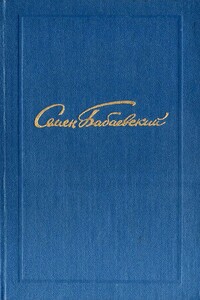
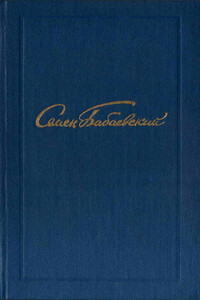

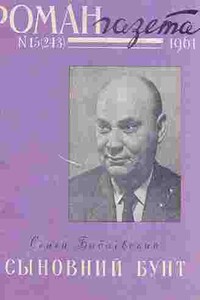





![Неоседланные лошади [Сборник рассказов]](/uploads/books/images/1c/1c16ca2920b359b5ad73cd59634fdad6e7101e6f.jpg)