— Думаю, что нетрудно.
— Так почему же не сооружают? — строго спросил Мошкарев. — Да потому, что в нашем районе тех, кто приходит в милицию, за людей не считают. Надо об этом сигнализировать? Безусловно надо!
— Вот с этим трудно согласиться, — возразил Холмов. — Прежде чем писать в область, пошел бы к начальнику милиции и сказал бы ему вот так, как мне. Уверен, меры были бы приняты.
— Чудак ты, Алексей Фомич! — Мошкарева так удивили слова Холмова, что он рассмеялся. — Даже как-то не верится, что ты был на таком высоком посту. Пост занимал большой, а житейскую истину не познал. А тебе бы надо небось знать, что наш районный начальник милиции с Антоном Мошкаревым и разговаривать не станет! Кто я для него? Да никто! Отсюда и вытекает мой прямой долг — сигнализировать выше. Мои сигналы подписаны моим именем. И когда поступит сюда из области официальный документ, вот тогда начальник милиции сам меня пригласит для беседы.
— Опять не согласен с тобой, Антон Евсеевич, тут ты не прав, — заявил Холмов. — Ведь ты же еще никуда не ходил, ни с кем еще не встречался, а уже утверждаешь, что с тобой не станут разговаривать.
— Можешь не верить и не соглашаться, твое дело, — возразил Мошкарев. — Но я-то знаю, как на местах относятся к простому человеку. А к тому же сам хочу, чтобы не я ходил, а ко мне бы приходили, чтобы не я просил, а меня бы просили.
— Вот как! Это уже совсем иной разговор. Ну, а еще какие у тебя есть примеры? — после некоторого молчания спросил Холмов.
— Пожалуйста, еще пример, самый свеженький, живо отвечал Мошкарев. — Тому назад с неделю я послал письмо лично первому секретарю ЦК нашей партии.
— Почему лично первому?
— И согласно Уставу нашей партии, дающему это право коммунисту, и согласно велению сердца.
— Понимаю.
— По счету это письмо уже третье, — пояснил Мошкарев. — Первое в виде хлесткого фельетончика я отправил в «Известия». Эта газета любит острые моментики. Второе адресовал в «Правду». Результатов пока еще не последовало. Вот почему я быстренько обратился к первому секретарю нашей партии.
— О чем жалоба?
— Не жалоба, а сигнал об идейной ущербности, — тем же смелым голосом отвечал Мошкарев, — а короче говоря, об улыбочках и украшательствах Медянниковой. Этот сигнал политический, очень и очень серьезный. Ведь что происходит у Медянниковой? Ты еще не знаешь? А то происходит, что под видом демократии и внимания к простому человеку в райкоме партии процветает идейная неразбериха. Цветы, улыбочки. И это где? В партийном учреждении. Не я буду Мошкарев, если не выведу на чистую воду это новаторское штукарство Медянниковой…
В комнату вошла Верочка, и разговор оборвался на самом важном месте. Она принесла полную тарелку черешни. Черешня была крупная, ярко-желтая, будто вырезанная из янтаря. Промытая под краном, она еще хранила на себе свежий блеск воды и сверкавшие, как росинки, капельки.
— Мужчины! Хватит вам разговаривать. Угощайтесь. — Она поставила на стол, ближе к Холмову, тарелку. — Алексей Фомич, белая черешня самая вкусная. Попробуйте, Алексей Фомич! У нее и особенный вкус, и необыкновенный запах. Чудо, а не черешня!
— Ладно, ладно, Веруха, — сказал Мошкарев. И попробуем черешню, и оценим, а ты уходи, не мешай нам. Это хорошо, что догадалась угостить соседа черешней. Иди, иди, у нас важный разговор. Ну чего стоишь и глазами играешь? — спросил он сердито, видя, что Верочка не сводит блестящих глаз с Холмова. — Или не слышала, что тебе было сказано? Так я могу повторить!
— Слышала, не глухая! И перестань бурчать, старый буркун! — со смехом говорила Верочка. — Уж и постоять возле вас нельзя? Да у меня дело не к тебе, а к Алексею Фомичу.
— Какое там еще дело? — спросил Мошкарев.
— Такое, какое меня касается, — так же весело отвечала Верочка. — Алексей Фомич, можно к вам обратиться по одному важному вопросу?
— Что ты придумала? — уже с гневом спросил Мошкарев. — Какие могут быть у тебя важные вопросы?
— Алексей Фомич, можно к вам обратиться? — не слушая мужа, снова спросила Верочка.
— Да, да, пожалуйста, — сказал Холмов. — Я слушаю…
— Возможно, мой вопрос покажется вам не очень серьезным, так вы на меня не обижайтесь, — смутившись и покраснев, сказала Верочка. — Алексей Фомич, это правда, что вы умеете играть на баяне? Правда, а?
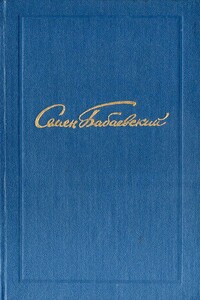
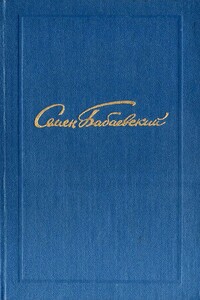
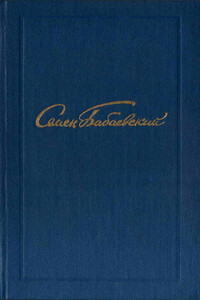

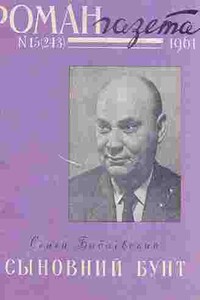





![Неоседланные лошади [Сборник рассказов]](/uploads/books/images/1c/1c16ca2920b359b5ad73cd59634fdad6e7101e6f.jpg)