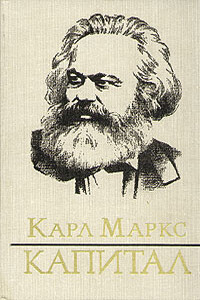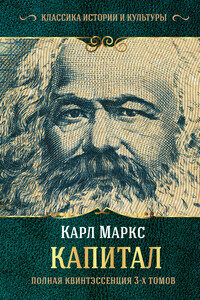Собрание сочинений, том 6 - страница 85
Что эту славу прусской армии история не забудет, — порукой тому тысячи поляков, которые в результате прусского предательства и черно-белого коварства были убиты шрапнелью, остроконечными пулями и т. п. и позже заклеймены адским камнем[151].
Об этом втором лавровом венке контрреволюционной армии в достаточной мере свидетельствуют сожженные прусскими героями села и города, убитые прикладами и заколотые штыками в своих домах польские жители, об этом свидетельствуют грабежи и всякого рода жестокости пруссаков.
Бессмертная слава этим прусским воякам в Познани, проложившим путь, по которому вскоре последовал неаполитанский палач[152], расстрелявший свою верную столицу и на 24 часа отдавший ее на поток и разграбление своей солдатне! Честь и слава прусской армии, отличившейся в познанской кампании! Ибо этот поход послужил блестящим примером хорватам, сережанам, ортоханам и другим ордам Виндишгреца и К°, в которых этот пример разжег страсть к подобным же подвигам, как это показали Прага (в июне), Вена, Пресбург {Словацкое название: Братислава. Ред.} и пр.[153].
И в конце концов даже это мужество пруссаков пред лицом поляков было лишь результатом их страха перед русскими.
«Три — число всего прекрасного». Следовательно, и «Моя армия» должна была стяжать себе троекратную славу. И случай к тому представился. Ибо «ее участие в установлении порядка (!) в Южной Германии принесло новую славу прусскому имени».
Только вследствие злобы или мании преуменьшения можно отрицать, что «Моя армия» оказала Союзному сейму, — который после того, как его перекрестили, модернизировался и повелел именовать себя центральной властью, — превосходные полицейско-жандармские услуги. Точно так же нельзя оспаривать, что прусское имя стяжало несомненную славу в деле истребления южногерманского вина, мяса, сидра и т. д.
Отощавшие бранденбуржцы, померанцы и т. д. отрастили себе патриотическое брюшко, жаждущие утолили жажду и на постоях в Южной Германии с таким геройским мужеством уничтожали вообще все, что им подавали, что прусское имя приобрело там повсюду самое громкое признание. Жаль только, что не уплачено еще за постой по счетам: признание было бы еще более полным.
Слава «Моей армии», собственно, неисчерпаема. Но все же нельзя обойти молчанием, что «когда бы я ни обращался к армии, она, верная до конца и связанная строгой дисциплиной, всегда готова была мне служить»; с таким же восхищением можно сообщить потомству, что «Моя армия противопоставляла гнусной клевете бодрый дух и благородную солдатскую доблесть».
Это поздравление звучит весьма лестно для «Моей армии»: оно восхваляет ее «строгую дисциплину» и «благородную солдатскую доблесть», оно снова подчеркивает ее геройские подвиги в великом герцогстве {Познани. Ред.} и тем самым вызывает приятное воспоминание о лаврах, которые она стяжала в Майнце, Швейднице {Польское название: Свидница. Ред.}, Трире, Эрфурте, Берлине, Кёльне, Дюссельдорфе, Ахене, Кобленце, Мюнстере, Миндене и т. д. Мы же, все прочие, не принадлежащие к «Моей армии», получаем при этом возможность расширить наши ограниченные верноподданнические понятия. Оказывается, что расстрелы стариков и беременных женщин, кражи (близ Острово это было занесено в протокол), избиение мирных граждан прикладами и саблями, разрушение домов, ночные нападения со спрятанным под полой оружием на безоружных людей, разбой на больших дорогах (вспомним случай при Нёйвиде), — оказывается, что этот и подобный ему героизм на христианско-германском языке называется «строгой дисциплиной», «благородной солдатской доблестью»! Да здравствует солдатская доблесть и дисциплина, ибо жертвы разбоя, учиненного под этим флагом, уже больше не воскреснут!
Уже эти немногие места из королевско-прусского новогоднего поздравления, которых мы коснулись, показывают нам, что этот документ по своему значению и по своему духу может быть поставлен рядом с манифестом герцога Брауншвейгского 1792 года