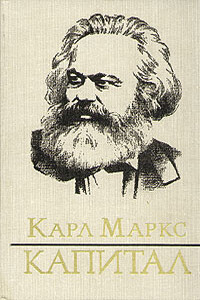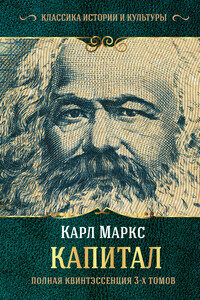Национальное собрание представляло современное буржуазное общество в противоположность феодальному обществу, представленному в Соединенном ландтаге. Оно было избрано народом, чтобы самостоятельно выработать конституцию, которая соответствовала бы жизненным отношениям, пришедшим в столкновение с существовавшим до сих пор политическим строем и существовавшими прежде законами. Оно было в силу этого с самого начала суверенным, учредительным собранием. И если оно, несмотря на это, опустилось до соглашательской точки зрения, то это было лишь чисто формальной вежливостью по отношению к короне, простой церемонией. Мне незачем здесь вдаваться в рассмотрение вопроса, имело ли Собрание право, вопреки народу, становиться на позицию соглашения. Оно придерживалось мнения, что следует предотвратить столкновение с короной с помощью доброй воли обеих сторон.
Но одно уж несомненно: законы от 6 и 8 апреля, принятые по соглашению с Соединенным ландтагом, были формально недействительны. Материально они имеют только тот смысл, что формулируют и устанавливают условия, при которых Национальное собрание могло бы быть действительным выражением народного суверенитета. Законодательство Соединенного ландтага было лишь формой, которая избавляла корону от унизительной для нее необходимости провозгласить: я побеждена!
Теперь, господа присяжные заседатели, перехожу к более детальному разбору речи прокурора.
Прокурор сказал:
«Корона уступила часть власти, которая всецело находилась в ее руках. Даже в обыденной жизни отказ от чего-нибудь не идет дальше прямого смысла слов, в которых этот отказ сформулирован. Но закон от 8 апреля 1848 г. не предоставляет Национальному собранию права отказа от уплаты налогов и не назначает Берлин непременной резиденцией Национального собрания».
Господа! В руках короны находились обломки власти; корона поступилась властью, чтобы спасти ее обломки. Вы помните, господа, как король, тотчас же по вступлении на престол, в Кенигсберге и Берлине буквально ручался своим честным словом, что никогда не согласится на конституционный образ правления. Вы помните, как король в 1847 г. при открытии Соединенного ландтага давал торжественную клятву, что не потерпит клочка бумаги между собой и своим народом. А между тем после мартовских событий 1848 года король сам себя провозгласил в октроированной им конституции конституционным королем. Он поставил между собой и своим народом эту беспочвенную чужеземную галиматью — клочок бумаги. Рискнет ли представитель прокуратуры утверждать, что король добровольно опроверг столь явным образом свои торжественные заверения, что он добровольно перед лицом всей Европы взял на себя вину в вопиющей непоследовательности, допустив соглашение или конституцию? Король пошел на те уступки, к которым его вынудила революция. Не больше и не меньше!
Популярное сравнение представителя прокуратуры, к сожалению, ничего не доказывает. В самом деле, если я отказываюсь, то отказываюсь только от того, от чего я определенно отказываюсь. Если я вам делаю подарок, то с вашей стороны было бы поистине наглостью требовать от меня в силу моего дарственного акта дальнейших приношений. Но дарил-то после мартовских событий как раз народ; получала подарок корона. Само собой разумеется, что характер подарка должен устанавливаться дарителем, а не получателем, народом, а не короной.
Абсолютная власть короны была сломлена. Народ победил. Обе стороны заключили перемирие, и народ был обманут. Что народ был обманут — это, господа, взял на себя труд доказать вам сам представитель прокуратуры. Чтобы оспорить право Национального собрания на отказ от уплаты налогов, представитель прокуратуры обстоятельно разъяснял вам, что если нечто в этом роде и было в законе от 6 апреля 1848 г., то уж в законе от 8 апреля 1848 г. мы этого отнюдь не находим. Итак, этот промежуток времени был использован для того, чтобы через два дня отнять у народных представителей те права, которые были им предоставлены за два дня до этого. Мог ли представитель прокуратуры с большим успехом скомпрометировать