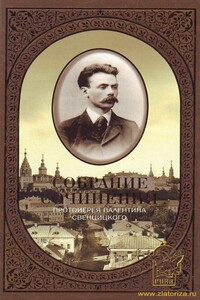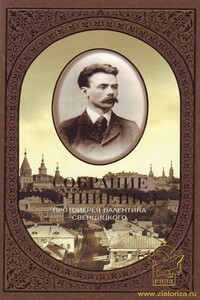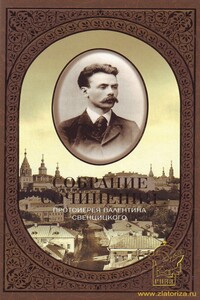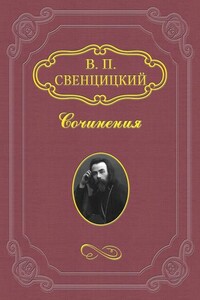Замечательный русский мыслитель, к сожалению, мало известный широкой публике, покойный Козлов определяет религию как «синтетическое единство деятельности человеческого духа»>530.
Можно спорить, конечно, в какой степени в этот синтез должны входить те или иные отдельные начала духовной сущности человека. Одни могут утверждать преобладание разума, другие – непосредственные чувства, одни – стремления альтруистические, другие – эгоистические, одни – мистику, другие – эстетику или мораль. Но всякая попытка построить религию на чём-либо одном, отдельном, оторванном от этого «синтетического единства духа», неминуемо приводит к уродливым результатам.
Классический пример такой попытки представляет из себя религия здравого смысла Льва Толстого. Вникнуть во все противоречия, в которых роковым образом запутывается Толстой в своей разумной религии, – это значит раз навсегда отказаться от мысли низводить религию на степень одного из множества отвлечённых начал.
* * *
Всякая разумная религия должна прежде всего разъяснить центральные вопросы, возникавшие перед человеческим сознанием.
Отсутствие ответов для разумной религии является не пробелом, а неразумностью, и потому критика Толстого должна быть начата именно с указания, чего нет в его учении и без чего разум человеческий не может быть удовлетворён.
Первый естественный вопрос всякого религиозного сознания есть вопрос о происхождении мира. Он не может считаться праздным любопытством теоретической мысли; ведь коль скоро существуют научные теории, объясняющие происхождение мира механическим путём, и значит, перед человечеством уже поставлена эта проблема, то всякая разумная религия, не принимающая механической теории, должна ответить, как разумно и религиозно решается ею эта проблема. У Толстого мы не находим даже намёка на какое бы то ни было решение этого вопроса.
Второй вопрос ещё более трудный и ещё более необходимый, также теряющийся в глубине вечности, – вопрос о происхождении зла. Как бы Толстой к злу ни относился, как бы ни пытался стереть границу между добром и злом, как бы отрицательно ни определял понятие зла, он должен признать, и действительно признаёт, что есть какая-то сущность реальная и действенная, которая не есть Божество и как-то ему противоположна. Спрашивается, каково её происхождение, как она явилась в мир, есть ли она создание Божие или существует сама по себе, и если существует сама по себе, то каково её взаимоотношение с Божественным началом? Тут вопрос не в словах, не в том, чтобы называть зло злом или каким-либо другим словом. Тут вопрос в признании двух противоположных начал и в необходимости разобраться в их взаимоотношении. Проблема о происхождении зла, решение которой совершенно необходимо для разумности религиозного построения, просто игнорируется Толстым. Это особенно непонятно в учении, которое в основу своей морали кладёт заповедь о непротивлении злу.
Далее. Вопросы о происхождении мира и происхождении зла могут казаться, так сказать, отвлечёнными вопросами, но есть вопросы, вытекающие из «эмпирии», не менее неотразимые и столь же трудные для религиозного сознания. Это вопрос об отношениях материи и Божества. Толстой с лёгким сердцем говорит о том, что смерть есть переход от низшего отношения к жизни к высшему, что Божественное начало в душе человеческой со смертью сливается со своим первоисточником, а «естественного» человека закапывают в землю. Спрашивается, что же такое, с религиозной точки зрения, закапывается в землю? Существует ли материя помимо Божества, и каков вообще её религиозный смысл? Ни на один из этих вопросов даже не пытается ответить разумная религия Толстого. Наконец, может быть самый кардинальный религиозный вопрос, самый больной потому, что он стоит не только перед религиозным сознанием, но и перед религиозной совестью, – это вопрос о смысле страданий. Что даёт «разумное» учение Толстого для решения этого самого проклятого из проклятых вопросов? Правда, у Толстого есть какие-то попытки утилитарно, здравомысляще решить все затруднения, связанные с выяснением смысла страданий, но все они так или иначе касаются страданий хотя бы с внешней стороны разумных и всегда имеют в виду смысл страдания, так сказать, в повседневной надобности, но не с точки зрения принципиальной. А перед религиозным сознанием и религиозной совестью он стоит не в своей повседневной, почти пошлой постановке, а в своём грандиозном мировом значении. Религиозная трудность вопроса не в подыскивании утилитарного смысла отдельных