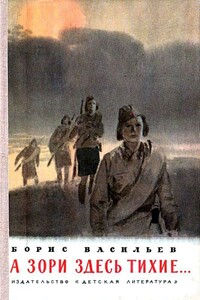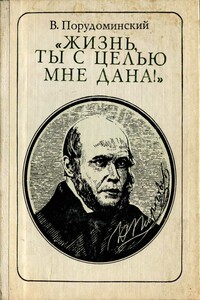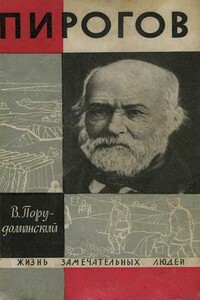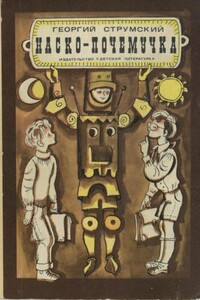Народ любит лубки. Даль их собирает. Показывает их Пушкину.
Бурые, сиреневые и серые скалы. Голубые горные реки. И похожие на реки сине-серые колонны войск. «Переход графа Дибича Забалканского». Это картинка про недавнюю войну. Через Балканы перешел не граф Дибич, а русская армия. Даль перешел через Балканы. Но звание Забалканского царь пожаловал только Дибичу.
Пушкин спросил:
— Дибич ведь умер от холеры?
Даль подтвердил.
— Странно, не правда ли, участвовать в стольких сражениях и умереть от холеры. Он мог погибнуть в бою.
Пушкин отложил картинку:
— Впрочем, Дибич недостоин такой смерти. Он воевал плохо. Надо заслужить свою смерть.
Пушкин кажется Далю задумчивым, грустным.
Нет, вот уже снова весел, просит Даля показать «что-нибудь новенькое».
Роется в Далевых тетрадках. Восторгается бурно и громко. И дельно: Даль, объясняя слова, будет потом вспоминать пушкинские замечания.
Выползина — так называется шкурка, которую ежегодно сбрасывают с себя змеи.
Пушкину очень нравится это слово. Он сперва хохочет, потом вдруг мрачнеет:
— Зовемся писателями, а половины русских слов не знаем!
Дома у Пушкина лежит экземпляр «Слова о полку Игореве», испещренный пометками. Пушкин собирается издать «Слово» со своим толкованием.
Пушкину жить еще несколько дней. На исходе январь 1837 года. Уже все решено для Пушкина.
Но вот зашел к Далю — посмотреть лубочные картинки, послушать слова.
Если бы Даль приехал в Петербург через месяц, не застал бы Пушкина. Но генерал Василий Перовский и состоящий при нем чиновник для особых поручений Владимир Даль прибыли по делам службы в Санкт-Петербург в последних числах 1836 года. Мы снова перешагнули через несколько лет, чтобы не разлучать Даля с Пушкиным. Годы 1832–1837 — для Даля «пушкинское пятилетие».
Даль идет в прихожую провожать Пушкина. На Пушкине новый сюртук — черный. Сюртук еще не слился с фигурой, он еще немного сам по себе. Далю больше нравится другой его сюртук, темно-кофейный, с бархатным воротником. К черному Даль не привык.
Пушкин поворачивается перед зеркалом, показывает Далю новый сюртук.
— Какова выползина! — хохочет. — Ну, из этой выползины я теперь не скоро выползу. — А январь уже на исходе. — В этой выползине я такое напишу!..
…Какой сильный ветер хлестал землю в этот проклятый день — 27 января 1837 года!
Данзасу было холодно, он определил: градусов пятнадцать мороза. Во дворцовом журнале утром отметили: морозу два градуса.
Может, оттого холодно Данзасу, что сани летят слишком быстро? Зачем так быстро? Куда спешить? Но извозчик весело покрикивает на лошадей, и Пушкин сидит рядом, кутаясь в медвежью шубу, — такой, как всегда, только смуглое лицо потемнело еще больше, раскрасневшись от ветра. Пушкин совершенно спокоен — роняет обыкновенные слова, даже шутит.
Проезжают место гулянья. «Свет» катается с гор. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Пушкину прямо. Мимо «света». К Черной речке. То и дело попадаются знакомые. Едут навстречу. Пушкин раскланивается. Никто не спрашивает «куда?», не пробует остановить стремительные сани. Мчатся куда-то поэт и камер-юнкер Пушкин, полковник Данзас, лежит в санях большой ящик с пистолетами Лепажа. Знакомые кивают, делают ручкой, касаются пальцами шляпы, на ходу выкрикивают приветствия.
Граф Борх с женою — в карете четверней. Каменное лицо.
Офицеры конного полка князь Голицын и Головин — в санях. «Что вы так поздно? — кричит Голицын. — Все уже разъезжаются!»
Юная графиня Воронцова-Дашкова. Ее охватывает тяжелое предчувствие. Дома она будет со слезами на глазах ждать дурных вестей.
Никто не бьет тревогу.
Да и поздно уже: сани летят слишком быстро. Люди кругом, а сани мчатся, словно в пустоте. «Знакомых тьма — а друга нет». Пушкин мог два-три дня подряд твердить на разные голоса строку, которая ему понравилась. Юношей, лет двадцать назад, Пушкин любил повторять эту строчку. «Знакомых тьма — а друга нет».
Где друзья?.. Где Жуковский? Где Вяземский? Где Александр Тургенев? Почему появились, когда все было уже кончено?
Почему Пушкин был совсем один в этот морозный и ясный день, в этот проклятый день 27 января?..