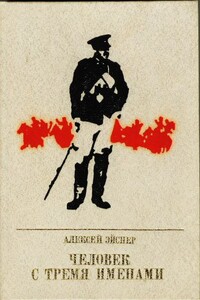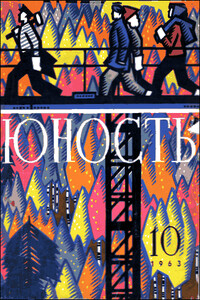Заичневский писал казенные бумаги. Поднял голову:
— Какой еще архиерей?
Вошел изумленный Чемесов, зашептал радостно:
— Он здесь! Здесь… В лазарете… Боже праведный…
Заичневский вмиг сообразил, кого привезли, выбежал, зашагал к лазарету. Значит, в Иркутске не оставили. Значит — варницы. И вспомнил почему-то кувшин с молоком.
Несколько дней пребывания в Усолье не прибавили Чернышевскому сил, хотя покуда (до какой поры?) поселили его приватно у чирочника Назара Исидорыча, в чьих ичигах и чирках ходило пол-Усолья.
Чирочник привык к простым заказчикам, однако теперь вдруг стали являться именитые, барышни, барыня местные, которые прежде ближе, чем в Тельме, обуви ее шили. Приходили пялиться на тихого этого постояльца, смекнул Назар Исидорыч. Кто он таков? У этого своевольца в красной рубахе Назар Исидорыч постеснялся спрашивать. У Кондрата же спросил.
— С государем повздорил, — пояснил Кондрат, — не стану, говорит, освящать волю. Мнимая она. Господа тебя обдурили, а ты — уши развесил…
— Обидно, — сказал чирочник.
А к вечеру явился этот, в красной рубахе, на уху звать.
Поговорили о чем-то, постоялец собрался, пошел.
Петра Григорьевич, как отметил Кондрат, не то чтобы суетился перед новым каторжным, не то чтобы робел, а как-то признавал за ним силу немалую. Убрался, книги сложил, веником сам прошелся — как на смотрины.
Разговор не ладился. Кондрат так понимал: присматриваются. Будто разной веры. Смотрели книжки, листы писанные. Кондрат занимался ухою на мангале во дворе, в дом не заходил.
Дядя Афанасий осаживал своего каурого мерина. Мерин, смирный, ледащий, — как взбесился, загоготал, сломал оглоблю (треск был слышен) и вдруг встал, понурив голову до земли. Дядя Афанасий кричал, грел конягу кнутом со зла, мерин сносил кнут, как неживой.
— Теперь слегу менять, — сказал Чернышевский. Заичневский встал.
— Пойду помогу.
Но там, за окном, уже был Кондрат, еще кто-то, смеялись, дядя Афанасий разводил руками: с чего бы его, смирную волчью сыть, бес раздразнил?
Чернышевский сказал негромко:
— Сядьте. Там — без вас… Как видите, экстренная деятельность смирной лошади — внезапна… В таком состоянии она может в пять минут унести воз так далеко, что в целый час не продвинуться… Но без надлежащего направления такому порыву останется лишь поломанная оглобля… Вот — извольте. Стоит, понурилась, как будто стыдится за свою выходку…
Вошел Кондрат:
— Видали?
— Что с каурым?
— Гнус! — захохотал Кондрат. — В ноздрю! И — слепень в то место! И — враз с двух сторон! Ой, батюшки! Мерин, а как взвился!
Чернышевский повеселел:
— А хозяин ругается, небось?
— Нет, — возразил Кондрат, — ему нельзя никак. Он — старой веры.
За окном мерин боком тащил воз на одной оглобле.
— До дому дойдет, — сказал Кондрат, — тут — в гору, не беда.
Чернышевский рассмеялся:
— На одной оглобле! Кстати, об оглобле… Я понимал ваши надежды на староверов как на протестантов казенного православия. Оппозиция земства государству. Вы ведь против религии ин корпоре, а они лишь против официальной имперской. На безбожии вы с ними не столкуетесь. Вы бы лучше обратили внимание на то, что они прибирают к рукам промышленность, финансы, производство! Это поважнее протестантского двоеперстия…
Кабинетный человек? Два года назад, когда Слепцов уговаривал смягчить «Молодую Россию», Заичневский был оскорблен: мы не мальчики! Что с того, что вас прислал Чернышевский?! У нас своя голова! Но вот Чернышевский здесь, в каторге. Не «Молодая ли Россия» прибавила ему причин оказаться здесь?
— А где Слепцов? — неожиданно для самого себя спросил Заичневский. Чернышевский не удивился вопросу:
— В Лондоне.
Слабая улыбка на сероватом осунувшемся лице почему-то взбесила Заичневского:
— А вы почему (хотел сказать: «какого черта») не в Лондоне?!
Чернышевский снова тихонечко рассмеялся:
— Так я ведь уже бывал в Лондоне…
— Ничего смешного не вижу…
— Я — тоже… Мне ведь они предлагали… Даже обещали доставить до границы в целости и сохранности…
— Кто?!
— Господин Потапов.
Заичневский опустил голову. Хотел спросить — когда предлагали? До «Молодой России»? Не спросил. Тихий смех сменился было печалью, но печаль не удержалась. Глаза Чернышевского сделались твердыми, металлическими: