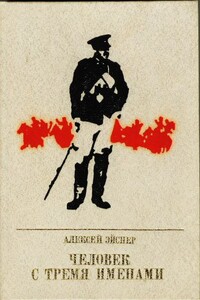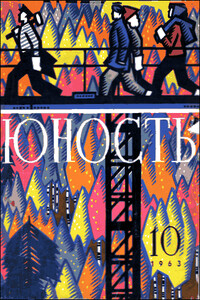— Послушайте, Заичневский! Ваше поведение я расцениваю как оскорбление начальства при исполнении обязанностей.
Петр Заичневский вмиг прекратил дурачество:
— Приступайте к обыску, господин капитан!
Сказано это было спокойно, более того, Заичневский повысил в чине коллежского секретаря Соловарова таким тоном, будто поздравлял его с производством.
— Скончался Усачев, — сказал Содоваров, — и мы…
— И вы пришли искать здесь то, что не нашли у покойника?! — закричал Петр Заичневский и сорвал с костыля свою поддевку. — Оставьте своих молодцов шарить здесь, а я иду!
— Петр Григорьевич, — несколько смягчился Соловаров, — я вас понимаю по-христиански… Однако… Демонстрация нежелательна… Мне стало известно, что у вас — красный флаг… И — речи… Не нужно речей…
Землю кайлили тяжко, будто земля эта никак, ни через какую силу, не желала разверзаться, чтобы принять в себя желтоватый некрашеный гроб, сделанный дядей Афанасием. Землю кайлили, как через зло:
— Не поддается…
— Дай-кось я…
И, выхукивая, вонзали кайло, щерясь от силы, будто была это веселая работа, игра — кто кого переумеет, кто кого переловчит. Кайлили каторжные, кайлили казаки, отставив ружья, кайлили обыватели, кто случился неподалеку. И была против всех одна земля, одна для всех, одна на всех, тяжелая, каменная, никак не желающая поддаваться ни вольному, ни арестанту, ни конвойному. Земля эта как будто созывала охотников померяться с нею, будто затеяла игру на солнечном морозе, и в игру эту вовлекали себя многие, позабыв в азарте, для чего, собственно, кайлят.
Но земля поддалась.
Открытый по православному гроб поставили на желтые морозные комья. Снежок ниоткуда (изморозь среди яркого, белого, синего солнечного дня) оседал на непохожее лицо, не тая на нем, присыпая, и только на длинных ресницах снежинки все-таки поддавались солнечному теплу, накопляясь, как слезы.
Стояло начальство над гробом государственного преступника, будто собранное на погост именно этой смертью, будто до этой смерти никто и не умирал на каторжных казенных солеваренных заводах.
— Мы провожаем в лучший мир, — сказал вдруг Николай Николаевич Чемесов, — молодого человека, юношу, сына отца с матерью.
И заплакал. Но пересилил плач:
— Братья… Он погиб… Он спасал мальчика… Он спасал дитя, и господу было угодно принять его к себе — праведника, мученика, героя… Царство ему небесное, и да помолится он за нас, злобных, черных, не способных к благодарности…
Николай Николаевич не сдержался, прикрыл плачущее лицо. И тогда сказал Петр Заичневский:
— Мы хороним своего товарища. Он попал сюда, в эту каторгу, потому, что разъяснял простым людям, что они — люди, достойные человеческой участи. Он учил их сплочению. Он был смелым, мужественным русским офицером. И как смелый офицер, он погиб под знаменем, коему присягал перед неравным боем!
Петр Заичневский сбросил с себя полушубок. Красная, сверкающе красная рубаха его полыхнула в ярком солнце.
«Простудится!» — мелькнуло в глазах Митрофана Ивановича, но лекарь вмиг устыдился подуманного.
— Он погиб, — зычно, преодолевая холод, сказал Заичневский, — с верою в то, что погиб не напрасно!
Рубаха трепетала на ветру, который вдруг пошел с Ангары, будто дождавшись, пока Заичневский обнажит свой красный флаг. Ветер сдувал пламя со свечей, но ни одна не погасла. Пани Юзефа, художник и тот новенький подняли полушубок и накинули на его плечи.
— Упокой, господи, душу усопшего раба твоего, — бормотал отец Малков.
Гроб заколотил дядя Афанасий и отошел подальше от попа. Грудки смерзшейся земли стукались о настил, прикрывающий гроб.
— Дождется трубы господней в неизменности, тлен не коснется его, — утешал Заичневского дядя Афанасий, провожая взглядом комья, слетающие с лопат.
Вечером того же дня стало известно, что в Иркутске на Ерусалимском кладбище, в сторожке, изловлен был Гришка Непомнящий, беглый, и в кандалах находится при чрене, в варнице.