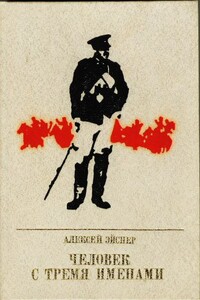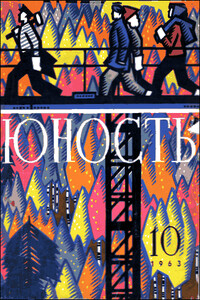Так оказался Кондрат в Усольских заводах, и какая жизнь осталась у него за спиною, на родине, в валдайских местах, не знал, не хотел знать и не думал.
Теперь, в Усолье, после того ильина дня, Кондрат состоял при этих ушатах, где мокли господа, ибо надо быть при деле человеку, хоть и возведенному по высочайшему повелению в палачи. Среди каторжных из господ, которые попали сюда за государственные преступления, Кондрат высмотрел одного, особенного: молодого, смелого, веселого, бесстрашного, как дьявол. Он высмотрел его сразу, как того приэтапили, да узнал как следует только в тот ильин день. Служить этому барину Кондрат, сроду не бывавший дворовым, а всегда хлебопашцем, барщинником, возымел вдруг охоту. Ему даже стало весело от того, что они вместе с этим барином — каторжные. Чудны дела твои, господи!
Зима на шестьдесят четвертый год ознаменовалась событием, для Усолья немаловажным: указано было из Иркутска ставить божий храм. Призваны были для сего богоугодного дела и местные мастера (дядя Афанасии тож) и присланные — сорок четыре человека. Среди присланных оказались не все вольные, а всего тридцать мужиков. Прочие же были арестанты, главным образом бродяги. Разместили их всех кого где — кого в остроге, кого в казарме, кого и в обывательских жилищах.
Приезжал из Иркутска господин архитектор, коллежский асессор Александр Евграфович Разгильдяев, брат акцизного. Отец Малков хрустел по морозному снегу новыми валенками, пересчитывал сваленные с лета лиственничные стволы.
И вдруг ни с того ни с сего сбежал из присланных ставить храм бродяга Гришка Непомнящий! Ну, кажется, сбежал и сбежал, жрать захочет — заявится, зима все-таки.
Но Гришка не являлся. Кто-то даже пустил разговор, будто подался он в монахи, в Вознесенский монастырь. Охальники, конечно, говорили — в Знаменский, ибо Знаменский был женский.
Однако в монастыре Гришку не видели.
— Месье Пьер Руж, — сказала пани Юзефа Петру Заичневскому, — он слишком молод… Он спасал дитя… Мадонна видела, как он спасал дитя, месье Пьер Руж!
Пани Юзефа плакала, как чудотворная икона: не меняя лица, не кривясь рыданием, а лишь точась редкими (две-три слезинки), бисерными слезами из уголков широко открытых, неподвижных, как будто нарисованных, зеленоватых глаз.
В сумерках в жарко натопленной комнате Усачев, худой, скулы над проваленными щеками краснели больною краснотой, постоянно горячий изнутри до озноба, кутался в беличью пупковую накидку, зяб. То, что он услышал сейчас, поразило его: «Молодую Россию», ту самую, из-за которой он здесь, написал Петр Заичневский!
Петр Заичневский всегда, даже в самых невыгодных для себя обстоятельствах говорил только то, что считал нужным сказать, и не говорил того, чего говорить не желал. И это его свойство странным образом сообщалось тем, кто его слушал: не верить ему было просто невозможно. Усачев был потрясен — веселый, беззаботный, несерьезный, склонный к какому-то и вовсе детскому баловству московский студент, сосланный за какие-то пустяки — печатанье литографий, речи перед мужиками (Усачев, приговоренный к смерти через расстреляние, имел основания считать вины Заичневского пустяковыми), так вот, этот самый повеса, оказывается, и сочинил то, из-за чего Усачева собирались расстрелять военным судом.
— Когда ты успел? — шепотом, скрывая восторг, спросил Усачев.
— В частном доме, — беспечно сказал Заичневский, — в Тверской части… Да полноте! Скажи-ка лучше, что ты думаешь о нашей прокламации?
— Нашей? — переспросил Усачев, — значит, ты был не один?
— Да как ее поднять одному! Разумеется!
— Значит, Революционный Комитет существует?! Браво! Мы, офицеры, были правы! Читали не только в батальоне, читали в Сампсоньевской воскресной школе, мастеровые… Студент Крапивин, учитель этой школы, составил для них словарь неясных слов, которые вы…
Петр Заичневский ходил вокруг стола, на котором уже горела свеча (зажгли во время разговора) и лежали вразброс книги. Усачев не отрывал взгляда, ожидая, что он скажет.
— Центральный Революционный Комитет есть, — сел к столу и посмотрел в книги Петр Заичневский.