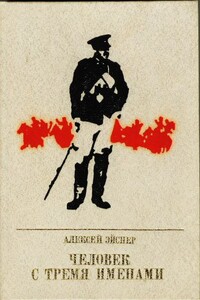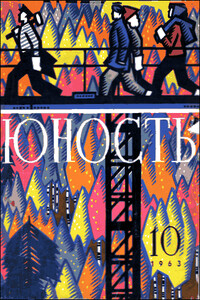Баня была техническим детищем Дмитрия Васильевича. Она обогревалась водотрубным котлом, и пар в нее подавали при помощи центробежного регулятора.
Разумеется, баня была еще не готова, но мыться в ней уже было можно. Освещалось помещение керосиновыми фонарями, какие обыкновенно висят в конюшнях.
Великое банное содружество ликовало в предбаннике. Какие бы эполеты ни носил человек, в какие бы хламиды ни рядился, какими бы ризами ни прикрывался, был он все-таки, по сути своей, наг, как Адам в тот — увы, недолгий — час, когда, вылупившись на свет, он даже еще и не помышлял о Еве. Он был свободен от вздора, который там, за дверью рая, мстительно дожидался, чтобы терзать страстями. Великое банное содружество ликовало в раю. Петр Григорьевич сидел на лавке, на льняной простыне в сухом тепле предбанника и, полуприкрыв глаза, слушал веселый гомон крепких статных молодых людей, которые разоблачались для древнего языческого ритуала омовения телес.
Дверь дохнула холодком. Вошел старик лет пятидесяти в старом стеганом турецком халате, в ночном колпаке с кисточкою. Старомодные начальственные бакенбарды и пенсне на шнурке никак не соответствовали его одежде. «Должно быть, это и есть Иннокентий Илларионович», подумал Заичневский и ощутил удовлетворенно от того, что теперь он — не единственный старик среди этих Гераклов и Аполлонов.
Должно быть, Митя Удальцов был здесь баловнем. Он один и не смутился появлением начальства. Все стихли, Митя же сказал беззаботно, как баловень семейства:
— Ваше превосходительство… Позвольте — Петр Григорьевич Заичневский.
Генерал (статский, разумеется) сановно выпятил губу, шевельнул бакенбардами, однако весьма дружелюбно протянул руку:
— Весьма-с… Я, милстсдарь, с Нечаевым мылся…Имел честь…
Генерал снял пенсне, сунул в кармашек халат, сел на лавку, стащил с лысой головы колпак:
— За кузнецом послали? — И — Петру Григорьевичу, разоблачаясь. — Худ был Сергей Геннадиевич… В чем душа держалась… Кожа пупырчатая, аспидная, бес, да и только…
— Вы что же, — покосился Заичневский на неожиданный шрам (два рубца иксом на белом несильном плече), — в пятерке у него состояли?
— Э, Петр Григорьевич! Молодо-зелено… А вспомнить приятно!..
Петр Григорьевич уже привык и даже не замечал, считая само собою разумеющимся, свойство образованного русского человека всенепременно начинать свой жизненный путь с крамолы, с тайных бдений, с недозволенных чтений, с шумных споров об истине, о благе народа, о пошлости жизни и подлости самодержавия. Разумеется, чины, эполеты, бакенбарды отрастали потом, но в памяти о безусой, ватажной, бесчиновной юности оставался светлый, как солнечный зайчик в детской, золотой блик, вспыхивающий тайно от карьеры.
Иннокентий Илларионович заметил взгляд, прикрыл шрам небольшой ладонью с обручальным кольцом, сказал почти застенчиво:
— Плевна-с… Турецкий ятаган… Так где же кузнец, Дмитрий Васильевич?
— Кузнец на месте, ваше превосходительство…
Петр Григорьевич отметил, что из всех присутствующих генерал видел только Митеньку, будто никого, кроме Удальцова, и не было.
— Вот, Петр Григорьевич, — сказал генерал, — предъявлю я вам сейчас истинного Стеньку Разина… Что твои турецкие бани! Прошу-с…
Посреди мыльни, сумеречной, несильно освещенной керосиновым фонарем, темнела в жидком пару высокая лавка, возле которой стоял голый, в полотняном переднике Кондрат.
Кондрат мял полотняными рукавицами узенького белобрысого телеграфиста. Телеграфист блаженно извивался под тяжелыми руками, кряхтел, стонал.
— Балуй, — приговаривал Кондрат, заламывая телеграфисту ноги.
На чугунном плече кузнеца Петр Григорьевич узнал старый каленый след — так таврят лошадей.
Петр Григорьевич не удивился ни Кондрату, ни тому, что Кондрат делает вид, что не знает и его. Это была старинная каторжная этика, старинный кантов категорический императив, осмысленный практикою бытия.
Появившись в мыльной, генерал будто утратил чин, да и молодые люди как-то осмелели при нем, должно быть, подвигаемые великим банным содружеством.
Кондрат шлепнул телеграфиста по детскому месту, телеграфист вскочил: