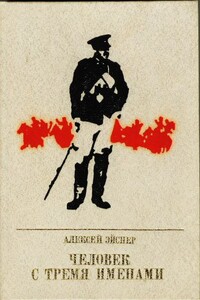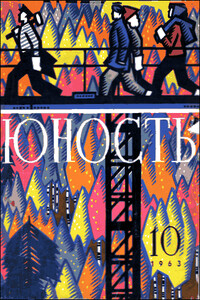— Ф-р-р-р… Молодец!.. — захлебнулся ротмистр. — А как прикажете быть, если у нас кусок хлеба — одолжение?
— Да ты, я вижу, материалист, — загрохотал Петухов.
— Разумеется, — глянул на полок, где лежал Петр Григорьевич, ротмистр, — не полный же я идиот!
— Давай теперь революционера, Стенька Разин! — крикнул титулярный советник, покосившись на генерала, — как раз после жандарма!
— Господа! — не унимался телеграфист. — А ведь бунты-то на Руси возникали в сытых местах! На Яике, на Дону…
— Теперь сытых мест нету, — сказал Кондрат, — бунтов, не будет более… Страшный суд будет…
— Когда ж он будет? — весело спросил Удальцов.
— К началу нового столетнего века, — твердо сказал Кондрат. Голубев укладывался на освободившуюся лавку:
— А по какому счислению — по нашему или по западному?
— Запад опередит на двенадцать суток, — сказал телеграфист. — Нет, позвольте! Уже на тринадцать!
— И здесь, собачьи дети, обставят, — вдруг произнес с полка генерал.
Петухов охотно рассмеялся:
— Страшный суд! Эка невидаль! Напишем кассацию, начнем волокиту!.. На целый век хватит!.. Что ж — не обманем? Окружной обманывали! Выкрутимся!
— Прекрасная перспектива, господа, — вздохнул генерал. — Весь двадцатый век судиться с господом богом! Это же сколько стряпчих, присяжных поверенных, жучков, паучков…
Ротмистр не преминул съязвить:
— В двадцатом веке будет революция, — сказал он по-немецки. — Производительные силы войдут в противоречие с производственными отношениями. Я читал господина Маркса по-немецки.
— Где же? Неужели в кадетском корпусе?
— Извините, в пажеском… Но там я читал господина Лассаля. Господина Маркса я прочел позже… Среди конфискованных книг…
— Да? И как вы нашли Маркса?
— Вы знаете, относительно, — снова по-немецки, — производительных сил и производственных отношений он меня заинтриговал. Наконец-то я стал понимать, чего хотят новенькие…
— Ну и чего ж они хотят?
— Того, что в России невозможно, герр революционист…
— А что же, по-вашему, возможно в России?
— Не знаю, право, не знаю, — очень серьезно сказал ротмистр и вдруг, словно испугавшись своего искреннего тона, добавил уже шутовски, — мне кажется, в России все невозможно и поэтому нет ничего невозможного. Русский человек делает все в десять раз больше, чем нужно. В десять раз больше, чем нужно, конспирирует и в десять раз охотнее, чем нужно, ловит конспираторов.
— Революционеры тайно желают строить дворцы для народа, — загрохотал титулярный советник Петухов, — а жандармы явно ловят их за это! Кузнец! Хочешь жить во дворце?
Кондрат шлепнул Голубева, согнал с лавки:
— Не… Наслежу…
— Химеры, господа, — благодушно сказал генерал, — утопии… Сочинителям ничего не стоит выдумать что-нибудь этакое и — увлечь… Я ведь сам в юности… Мнилось мне, что я — Базаров… Господин Тургенев увлек-с…
— Базаров не кажется мне таким уж революционером, — сказал ротмистр, — да и убил его Тургенев, не зная, как с ним быть.
— Ты б уж знал, как с ним быть! — захохотал Петухов.
Петр Григорьевич прислушивался: ведь Тургенев перед кончиной собирался писать роман о нем, о Петре Заичневском. Собирался писать с него другого Базарова, как рассказывал Петру Григорьевичу лет десять назад великий вестовщик Гиляровский. Суетная мысль эта посещала Петра Григорьевича редко, но всегда будоражила: как все-таки написал бы о нем сам Тургенев? А может быть, он написал бы новый «Дым»? Или новую «Новь»? Неужели бы и его прикончил? Не хотелось бы…
А в бане уже разговаривали о том, как следует сочинять романы. Молодые люди, о чем бы ни говорили, говарили знающе, как пророки.
— Базарова Тургенев выдумал, — снисходительно сказал телеграфист. — А вот вздумал бы он описать невымышленное лицо — попыхтел бы!
— Это почему же? — не сдержался Петр Григорьевич.
— Да потому, что законы изящной словесности таковы, что в конце сочинения необходим кульминационный момент. Например — революция! А революции пока еще нет… Значит, надо искать кульминационный момент в тех временах, когда все казались себе Базаровыми, когда все были революционерами…
— И составляли громовые прокламации, потрясая воображение! — добавил Карасев.