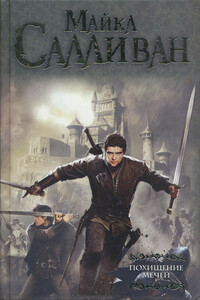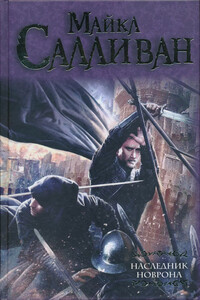Всю свою жизнь он пытался проникнуть сквозь завесу, которой люди окружали себя. Они скрывали свою истинную сущность за одеждами: трусливые – за бравадой, храбрые – за покорностью, заботливые – за равнодушием, грешные – за благочестием. Шервуд соскребал внешний лоск, чтобы докопаться до скелета. Эти глубоко погребенные тайны придавали искренность его работам. Понимая – видя – то, что было недоступно другим, он вкладывал в картины непреложную истину, которая делала его портреты столь живыми. У каждого имелись секреты, зачастую простые и незамысловатые.
Уэллс казался почти голым. Этот человек страдал от чревоугодия. Нокс в душе был диким зверем. Другое дело – Фокс. Нечто холодное таилось в его груди и пульсировало, а не билось. Шервуд сомневался, что Фокс справляет малую нужду каждый день, как все люди.
Ниса Далгат была совсем иной. Он никогда не встречал таких женщин. Конечно, у нее тоже был секрет, но она спрятала его в недоступных глубинах, под грязью и щебнем, под сланцем и несокрушимой скалой. Шервуд мог видеть лишь промельки теней в окнах ее глаз, маленькие ладони, прижатые к стеклу, одинокую душу, запертую в пустом доме.
И теперь, глядя, как леди Далгат встревоженно смотрит на него, он понял, что облака разошлись. Он стоял в глазу бури. Вокруг бушевал шторм, но он находился в безопасности. Стоял с ней, озаренный единственным солнечным лучом, и все было хорошо.
Набожные люди говорят о моментах божественного озарения, о благодати, когда боги, которым они поклоняются, забывают о повседневных делах, чтобы протянуть палец и коснуться своих последователей. Так менялись жизни, рождались пророки, возникали и гибли нации. В это мгновение Шервуду показалось, будто на него снизошла благодать, она потрясла его до глубины души и еще глубже. Какое-то время он думал, что влюблен в Нису Далгат, но слово «любовь» было слишком мелким, чтобы вместить все его чувства. Матери любили детей. Мужья любили жен. Чувство, которое испытывал Шервуд, больше напоминало благоговение. Среди битого стекла и потеков краски родился пророк, и хотя народы не содрогнулись, им бы следовало это сделать.
Глава девятая
Похищение мечей
Адриана разбудили пение птиц и прохладный ветерок. Окно было открыто, тонкие занавески колыхались. Больше в комнате ничего не двигалось. Он лежал на чем-то мягком, под головой была подушка. Откуда-то издалека доносился приглушенный звон стаканов, голоса, смех и скрип стульев по деревянному полу.
Похоже на таверну.
Эта мысль возникла в голове под легкий шелест ветерка и свистящие трели дрозда… а потом он вспомнил.
Адриан сел, ожидая приступа мерзкой головной боли, как утром после особенно крупной попойки. Думал, что голова будет раскалываться, глаза слипнутся и не пожелают открываться. Однако он чувствовал себя нормально, даже хорошо. Во рту словно нашел место последнего упокоения скончавшийся бурундук, но в остальном все было в порядке.
Адриан понятия не имел, где находится. Он не только ожидал сурового похмелья, но и рассчитывал увидеть иную сцену – при условии, что вообще сможет видеть.
Он действительно лежал на кровати – на приличной, чистой кровати с толстым матрасом, мягким одеялом, льняными простынями и пуховой подушкой. Комната была очень милой. Большие темные балки поддерживали потолок. На полу красовался коврик. Занавески обрамляли единственное окно, в которое лились яркие солнечные лучи, падавшие на стол и жесткое кресло. В кресле сидела знакомая тень.
– Они меня отравили, – сказал Адриан. – Она… она меня отравила.
– Я знаю, – кивнул Ройс. Он смотрел в окно, вниз.
Адриан принялся ощупывать себя: ничего не болит, ни порезов, ни синяков. Ни смолы с перьями. Он был в своей одежде и сапогах, пропал только плащ. Нет, не пропал, а лежал в изножье постели.
Адриан взглянул на свои руки и вспомнил, как возился с ключом.
– Мне… мне удалось запереть дверь?
– Да, удалось. – Ройс закинул обутые ноги на стол. – Пришлось вскрыть замок, чтобы вытащить тебя.
Он снял капюшон, продемонстрировав смущенное лицо.
– Что?
Ройс пожал плечами.
– Ты впечатлен, да? Тем, что я догадался запереться.