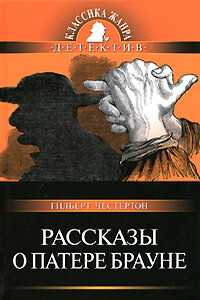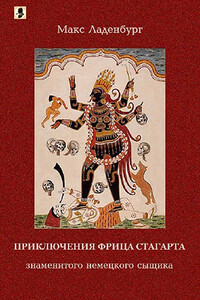У Поля Таррента, казалось, было одно только занятие – менять костюмы, что он и проделывал по шесть раз в день, постепенно меняя все нюансы серого цвета от самого светлого до самого темного, подобно сгущающимся сумеркам. В отличие от прочих американцев, он носил короткую курчавую бородку; в отличие от прочих денди – даже его собственного типа, – он казался не только не легкомысленным, но и весьма угрюмым. Было даже что-то байроническое в его сосредоточенной и сумрачной молчаливости.
Далее следовали два человека, которых все невольно ставили рядом – только потому, что оба они были англичанами, возвращавшимися из лекционного турне по Америке. Один из них, некто Леонард Смайс, был второсортным поэтом и, по-видимому, первоклассным журналистом; длинноголовый, лысоватый, изысканно одетый, он выглядел весьма благопристойно. Другой казался полной противоположностью ему: он носил черные моржовые усы, был невысок ростом, толст и настолько же молчалив, насколько болтлив был его компаньон.
Шестым и самым незначительным членом этого общества был маленький английский священник по имени Браун. Он прислушивался к беседе своих сотоварищей с почтительным вниманием.
– Я полагаю, профессор, – говорил Леонард Смайс, – что ваши труды по истории Византии прольют некоторый свет на происхождение гробницы, найденной на южном побережье Англии, где-то в окрестностях Брайтона. Разумеется, от Брайтона до Византии очень далеко, но я где-то читал, что тело, найденное в этой гробнице, оказалось набальзамированным и погребенным по византийскому обряду.
– Я думаю, от всего того, что вы рассказываете, до истории Византии, действительно очень далеко, – сухо ответил профессор. – Чтобы говорить на такие темы, нужно быть специалистом, а специалистом быть очень трудно. Возьмем, к примеру, данный случай. Как можно говорить о Византии, не изучив предварительно историю Рима, а затем перейдя к истории Ислама? Арабское искусство, например, есть по преимуществу искусство древневизантийское. Возьмем хотя бы алгебру…
– Не надо алгебры! – решительно воскликнула дама. – Я терпеть ее не могу. Зато я ужасно интересуюсь бальзамированием. Я сопровождала Гаттона, когда он производил раскопки вавилонских гробниц. У меня самой есть несколько мумий. Расскажите нам про эту мумию.
– Гаттон был весьма интересным человеком, – сказал профессор. – Вся семья Гаттона достойна внимания. Его брат, член парламента, – нечто большее, чем заурядный политикан. Я никогда не понимал сущности фашизма до тех пор, пока он не произнес своей знаменитой речи об Италии.
– Но ведь мы не в Италию едем, – продолжала настаивать леди Диана, – а вы, кажется, направляетесь как раз туда, где была найдена эта гробница, – в Сассекс, если не ошибаюсь.
– Сассекс очень велик, как и все английские провинции, – ответил профессор. – По Сассексу можно блуждать без конца. И он того стоит! Прямо удивительно, какими высокими кажутся сассекские холмы, когда взбираешься на их вершины.
Наступило неловкое молчание. Затем леди Диана встала со словами: «Ну, я иду на палубу»; мужчины последовали ее примеру. Но профессор замешкался. Маленький священник, старательно складывавший свою салфетку, также задержался за столом. Когда они остались вдвоем, профессор внезапно обратился к священнику:
– Как по-вашему – к чему свелась наша беседа?
Патер Браун улыбнулся.
– Мне она показалась довольно смешной. Может быть, я ошибаюсь, но у меня сложилось такое впечатление, будто эти господа трижды пытались вызвать вас на разговор о мумии, найденной, по слухам, в Сассексе. А вы трижды пытались весьма вежливо перевести разговор – сперва на алгебру, потом на фашистов и, наконец, на сассекский пейзаж.
– Короче говоря, – сказал профессор, – вы полагаете, что я был склонен говорить на любую тему, кроме этой. И вы совершенно правы!
Профессор несколько секунд молча разглядывал скатерть, потом поднял глаза и произнес с неожиданным жаром:
– Послушайте, патер Браун. Мне кажется, что вы самый мудрый и честный человек, какого я когда-либо встречал.
Патер Браун был типичным англичанином, то есть человеком совершенно беспомощным и не знающим, как реагировать на подобный комплимент, сказанный совершенно серьезно и искренне, с американской прямолинейностью. Он пробормотал в ответ что-то бессвязное. Профессор тем временем продолжал все так же серьезно: