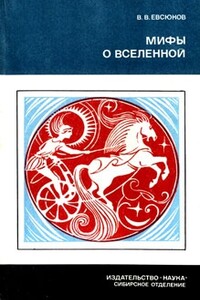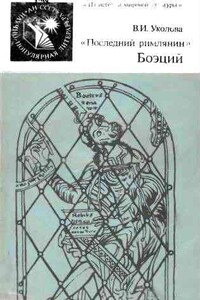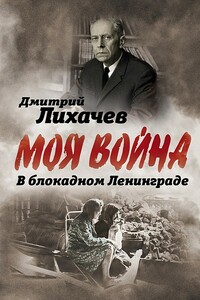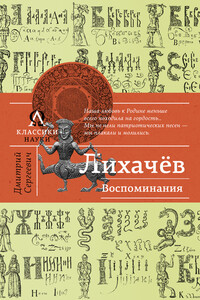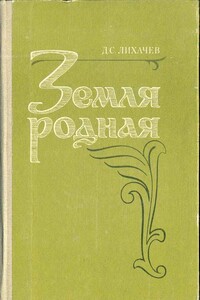«Гостей-то гостей было со всех волостей. Был Герасим, который у нас крыши красил. Был еще важный франт, сапоги в рант, на высоких каблуках, и поганое ведро в руках. Я думал, что придворный повар, а он был француз Гельдант, собачий комендант. Еще были на свадьбе таракан и паук, заморский петух, курица и кошка, старый пономарь Ермошка, лесная лисица да старого попа кобылица» (Русская народная драма, с. 130).
«Роспись о приданом» напоминает описание приданого, которое дает балаганный дед за своей дочерью. По принципу «Лечебника, како лечить иноземцев» построено описание балаганным дедом блюд, подававшихся на свадьбе деда, его запасов и пр.
Искусственное убыстрение процессов всегда вызывает «остаточные явления», которые надолго застревают в развитии. Искусственное убыстрение культурного развития при Петре способствовало тому, что многие характерные черты Древней Руси сохранили свою значимость для XVIII и XIX вв., — тип смеха в их числе.
Однако «остаточные явления» древнерусского смеха в новое время не обладали уже той социальной заостренностью, которой обладал древнерусский смех в XVII в. Балагурство балаганных дедов — это смех ради смеха, лишенное какого бы то ни было сатирического характера шутовство.
«Смеховой», или «кромешный», мир, построенный скоморохами и вообще шутниками всех разрядов, был продуктом в основном коллективного творчества. Это — коллективный образ и во многом традиционный. «Смеховой мир» был порождением того стремления к генерализации творчества, которое было так характерно для фольклора и древнерусской литературы и которое создавало в них «общие места», «законы», традиционные представления и традиционные способы выражения. Это было подведением осмеиваемого явления под некий, впрочем довольно широкий, смеховой шаблон. Наличие этого «смехового мира» не означало, однако, что юмор весь без остатка сводился только к отнесению в этот «смеховой мир» встретившихся шутнику тех или иных явлений.
При всей своей традиционности средневековый смех обладает и индивидуальными особенностями.[53] Индивидуальные особенности как бы накладываются на общие явления, свойственные эпохе.
В предшествующих главах мы видели некоторые такие индивидуальные отличия (в частности, особенности комического у Грозного), они естественно умножаются и увеличиваются в силе по мере развития личностного начала в культуре вообще. В XVII в. резко своеобразным, индивидуальным юмором обладал протопоп Аввакум. Несомненно, им владела крайняя нетерпимость в религиозных вопросах, но он не был при этом мрачным фанатиком, как его часто воспринимают и изображают.
Юмор Аввакума не был началом посторонним его мировоззрению, неким «добавочным элементом» — пусть даже и очень для него характерным. Если для Ивана Грозного юмор был элементом его поведения, то для протопопа Аввакума юмор был существенной частью его жизненной позиции: его отношением к себе, в первую очередь, и к окружающему его миру — во вторую. Постараюсь объяснить, в чем эта позиция заключалась.
Одним из главных грехов в русском православии считалась гордыня и в особенности сознание своей праведности, непогрешимости, незапятнанности, моральной чистоты. Поэтому таким любимым чтением в Древней Руси были рассказы о «святых грешниках» в патериках и минеях — о грешниках, раскаявшихся и продолжавших осознавать себя грешниками, или о тех, кто совершал подвиги в полной тайне от других, казался другим и считал самого себя величайшим грешником; типичны в этом отношении житие Марии Египетской, житие Алексея Человека Божия и мн. др. Быть презираемым всеми и чувствовать свою греховность самому — считалось одним из величайших подвигов святого.
В рассказе Киево-Печерского патерика об Исакии Затворнике, восходящем к XI в., бесы соблазняют его тем, что имитируют явление ему Христа. Исакий поверил и попал во власть ликующих бесов.
«Повесть о бражнике» XVII в. в сущности говорила о том же. Бражник, явившийся после смерти к вратам рая, посрамляет наиболее чтимых русских святых — апостола Петра, чудотворца Николу-Угодника и других — единственно своим смирением, сознанием своей свойственной всем греховности.