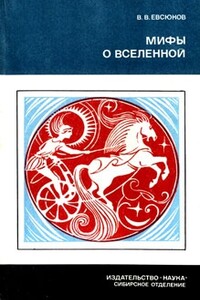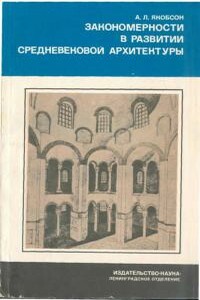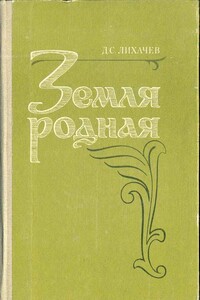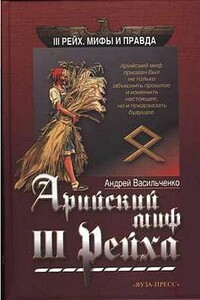"Смеховой мир" Древней Руси - страница 30
Введение Аввакума в книге бесед «на крестоборную ересь никонианскую» начинается со следующего самоуничижительного заявления: «Беседа человека грешна, человека безобразна и безславна, человека не имуща видения, ни доброты, ниже подобия Господня. По истинне рещи, яко несть и человек. Но гад есмь или свиния; яко же и она питается рожцы (жмыхами, — Д. Л.), тако и я грехми. Рожцы вкус имут в гортани сладость, во чреве же бледность. Тако и аз, яко юнейши блудный сын, заблудих от дому отца моего, пасяхся со свиниями, еже есть з бесы, питаюся грехми, услаждая плоть, огорчеваяй же душу делы, и словесы, и помыслы злыми» (там же, с. 241).
Почти во всех своих писаниях Аввакуму так или иначе приходилось говорить о претерпеваемых им муках за веру. «Соблазн» ощутить себя мучеником был особенно велик в его автобиографическом «Житии». Надо было, с одной стороны, рассказать своему читателю о своих вытерпленных муках за веру, с другой — показать читателю и представить самому себе эти муки как нечто заурядное, тривиальное, «ненастоящее». Необходимо было в какой-то мере отделить переносимые мучения от своей личности, взглянуть на них сторонним глазом и не ставить себе их в заслугу. Формой такого «отстранения» себя от своих мук и был смех. Не случайно он так часто говорит о себе в третьем лице, особенно когда шутит над собой.[57] Аввакум постоянно трунит над собой и над своими мучениями. Он шутливо описывает переносимые им с женой муки, а заодно смягчает свой гнев на своих мучителей.
Юмор Аввакума был порой очень мягким. Юмор этот пронизывает его «Житие». И он неразрывно связан с отношением Аввакума к себе и к окружающему его миру. Юмор — проявление смирения Аввакума. Юмор служит ему способом изобразить его доброе отношение к окружающим его мучителям, к мучительным обстоятельствам его жизни, смягчить его страдания. Это своеобразный способ примирения с жизнью и, главное, способ изобразить свое смиренное отношение к собственным подвигам, мучениям, страданиям.
При этом шутки Аввакума совершенно просты и лишены какой бы то ни было претензии, нажима. Он никогда не перебарщивает, всегда знает меру в шутках и рассчитывает на то, что читатель поймет его с полуслова. И в этом отношении он уважителен к своему читателю.
Смех Аввакума — это своеобразный «религиозный смех», столь характерный для Древней Руси в целом. Это щит от соблазна гордыни, житейский выход из греха и одновременно проявление доброты к своим мучителям, терпения и смирения. Своих врагов Аввакум полушутливо, полуласково называет «горюны», «бедные», «дурачки», «миленькие» (Жизнеописания, с. 148–150, 161) и предлагает: «Потужити надобно о них, о бедных. Увы, бедные никонияня. Погибаете от своего злаго и непокориваго нрава» (там же, с. 168). Никона он иронически называет «друг наш» (там же, с. 146). О своем главном мучителе — Пашкове — он говорит: «Десять лет он меня мучил, или я ево — не знаю; бог розберет в день века» (там же, с. 157–158). Припомнив временное благоволение к себе царя и его бояр, Аввакум пишет: «Видиш, каковы были добры! Да и ныне оне не лихи до меня; дьявол лих до меня, а человеки все до меня добры» (там же, с. 161). Это отношение к своим врагам особенно характерно для его «Жития» — произведения, в котором он главным образом повествовал о своих страданиях от врагов.
Древняя русская литература знала немало этикетных формул авторского смирения. Ими и начинались, и заканчивались многие произведения. Однако Аввакуму как бы мало обычных, традиционных авторских самоуничижений. Самоуничижение для него не дело обычного для средних веков литературного этикета, а действие глубоко религиозного самосознания, нуждающегося в подлинном, а не этикетном самоочищении от греховной гордыни. Поэтому само этикетное самоуничижение, когда им приходится пользоваться Аввакуму, приобретает у него чрезвычайно преувеличенные формы. Аввакум сравнивает себя с свиньей, питающейся «рожцами», и превращает этот образ в конкретную (а не отвлеченную, как обычно в этикетных формулах) бытовую картину.