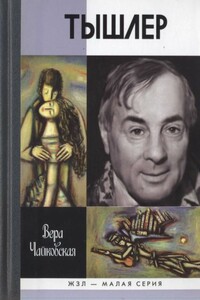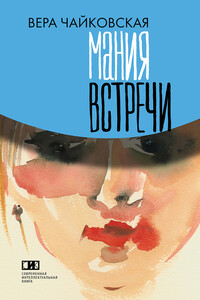Случай из практикума - страница 4
Вечером, проходя мимо большого нагелевского дома, он попросил дать ему, если найдется, масляную лампу-светильник, шахматы и свежие газеты. Есть журналы? Давайте и журналы. Ах, Ниночкин "Аполлон"? Ну, бог с ним, пусть хоть "Аполлон". Хорошо бы и Венеру в придачу, но она, как говорится, на небе. Видите? И он показал папаше Нагелю сквозь его прокопченное кирпичной пылью окошко, одно из шести в громадной темной гостиной с колоннами, на звезду Венеру, смиренно сиявшую на небосклоне. Тот с живым интересом воззрился на далекое, слабо мерцающее светило. - Неужели все в прошлом? Доктор, скажите, неужели все в прошлом? Я был как скала, но эти русские бабы... - А рецепт? Вы заказали капли? - Доктор взглянул на фабриканта с предельной строгостью. - Кажется, лечить надо вас, а не вашу дочь. Она вон уже рисует. Папаша Нагель разрыдался, пытаясь одновременно облобызать руку Петра Андреевича, которому едва удалось уклониться от этого потока "бабских" слез и благодарностей. "Аполлон" и шахматы, против ожидания, вскоре принесли, хотя в коробке с шахматами не хватало белого ферзя, а страницы "Аполлона" были измазаны, судя по всему, клубничным вареньем. Масляный светильник он взял в соседней пустующей комнате и погрузился в решение шахматной задачи, которую давно хотел решить. ...Среди ночи раздался звон колокольчика. Вероятно, этим звоном Нина обычно вызывала горничную. Но сейчас, кроме него, во флигеле никого не было. Спуститься? Может быть, с ней припадок? Не зажигая света, он порылся в саквояже, нашел успокоительную таблетку, налил в стакан воды из кувшина и двинулся вниз, потом, слегка опомнившись (какой-то обморочный снился сон), вернулся и накинул поверх пижамы тужурку, захваченную на всякий случай и повешенную тут же на гвоздь. Он ощупью спускался по совершенно темной, тихо скрипящей лестнице - в одной руке пилюля, в другой - стакан с кипяченой водой. Снова колокольчик. Он постучался кулаком с зажатой в нем пилюлей в дверь, откуда раздавался звук. Честно говоря, днем он не удосужился поинтересоваться, в которой из комнат нижнего этажа собирается поселиться барышня. Ответа не последовало. Он открыл дверь, испытывая неприятное чувство. Не хотелось попадать в "историю". - Доктор, вы? - Я. Мне показалось - колокольчик, или это кузнечики так стрекочут? Она, как и сегодня утром, лежала на кровати, но только теперь приподнялась и подняла голову. Было совершенно темно, но из открытой форточки лился свет белой июньской ночи, которая под Рязанью, конечно, не столь белая, как в Петербурге, и все же... Вообще-то он не мог видеть ее лица, ее глаз, - но было ощущение, что на него направлены два тихих ласковых удивленных светлячка. - Петр Андреевич, я не могла ждать до утра. Я хотела вам сказать... Словом, я сейчас проснулась от счастья. Да, не смейтесь! Я жива! Я - художница! И здесь я не одна, а вы меня оберегаете. Вы ведь оберегаете? - Хотите таблетку? - Вот и ответили. Конечно оберегаете. Я вам бесконечно, бесконечно, бесконечно... Тут доктор стал усиленно зевать и сказал, что идет к себе. - А поцелуй? - Какой поцелуй? Я вас, как мамаша перед сном, еще и целовать должен? Обойдетесь! Не уговаривались. Только за дополнительный гонорар! - Доктор, миленький. Подойдите, я вас сама поцелую! - Ни за что! Он тихо прикрыл дверь и, улыбаясь, поднялся наверх. И сны ему снились тихие, детские, радостные. В его тетрадке полумедицинских, полубеллетристических заметок запестрели новые описания и анамнезы. Там отмечались, например, появившиеся на прежде впалых щеках больной ямочки и то, что умиравшая несколько дней назад от тоски барышня оказалась редкостной хохотушкой и могла по полчаса смеяться даже не самой удачной его шутке и все просила повторить. И то, что на вид она несколько покруглела, правда, лопатки, когда она однажды снова попросила помочь ей с той безнадежной кофточкой ("я бы давно ее выбросила, но теперь она - память"), лопатки все так же выпирали и пушок вдоль спины был такой же - детский, персиковый. И еще в его подопечной проявилась одна драгоценная черта, которая послужила к продлению его здешнего пребывания. Барышня оказалась на редкость деликатной. Не навязывалась ему в компанию при трапезах - а он и впрямь всегда предпочитал есть в одиночку, одна ходила купаться на озерцо под ивы, и только случайно они с ней там сталкивались, и большую часть времени проводила на скамейке у флигеля за книгой (поэтические сборники не очень ему известных и не очень интересных поэтов декадентского толка) или за мольбертом; он сам пристрастился вечерами ходить к старикам Нагелям и играть в лото. Лишь иногда, проходя мимо нее с удочкой - в озере водились караси, и папаша Нагель снабдил его рыболовецкой снастью - или случайно столкнувшись возле лестницы, он ловил на себе ее чуть удивленный, благодарный, сияющий взгляд и понимал, что он тут совсем не лишний. В принципе удочки можно было и сматывать, но он и сам втянулся в этот праздный, праздничный, летний распорядок, и его глазу, давно не юношескому и не романтическому, приятно было видеть мелькающую среди травы тоненькую фигурку то в белом, то в желтом, то в розовом. Желтенькое простое платье в наивную "сборочку" (фабричный набивной ситчик), под "пейзанку", было, пожалуй, самым приятным для его глаза, да еще он любил ту кофточку с пуговицами на спине, может быть, тоже в силу воспоминаний. Ночами колокольчик снизу его больше не будил. Барышня, по-видимому, вполне уверилась в его надежности и профессиональной пригодности. Да и в самом деле, его пребывание тут диктовалось не только соображениями личного удобства и отдыха (ожидался еще и гонорар), но и профессионально-медицинскими резонами. Кто знает, как повела бы себя его подопечная, если бы он внезапно уехал. Но ведь в конце концов это должно же было случиться! Однажды Нина застала его на озере. Она шла в своем желтеньком "в сборочку" платьице, в белой круглой шапочке, закрывающей тоже круглые наивные брови, волоча за собой какую-то цветную подстилку, а он, только что переплывший с одного берега озера на другой и обратно, с мокрыми светло-русыми волосами, в брызгах воды на загоревшем поджаром теле, в полосатых длинных купальных трусах выходил из воды. "Явление Афродиты", - как он с беззлобным юмором о себе подумал. - Какой вы красивый, Петр Андреевич! - звонко крикнула Нина, приостановившись с зажатой в руке подстилкой, и он, не то удивленный, не то смущенный, а скорее всего раздосадованный ее наивной репликой, ринулся к ней на заросший травой берег и несколько раз мокрыми скользкими руками подбросил к небу, как мячик. Она визжала, вырываясь и хохоча. - Холодный, мокрый! Пустите, да пустите же! Смотрите, шляпка из-за вас упала! - Будете впредь надо мной издеваться! Красивый!!! - А если красивый? Она уже сидела под деревом на своей радужной подстилке, отбросив в траву запачканную шляпку, стриженые темные волосы от ветра взлохмачены, а он, пытаясь усмирить дыхание, оказался возле. Ее тонкий пальчик сметал брызги с его начинающей облезать спины. - Красивый, красивый, красивый. - Доиграетесь, - рычал он и, вдруг сорвавшись с места, побежал в заросли ив, где оставил одежду. Слава богу, хоть не нагишом застала, - впрочем, нагишом он, помня о хозяевах, не купался. Какие-то детские сцены, которые вот уже лет тридцать как с ним не случались. Уж не время ли остановилось? В этот же день, вечером, она приплелась к нему наверх, где, по обыкновению, было полутемно - горела только лампа на столике, охая, жалуясь на головокружение, ломоту во всем теле, резь в глазах и невыносимую головную боль. И еще, доктор, болят все зубы сразу. - Ага, есть все, кроме воды в колене, как у нашего друга Джерома. Сверх обыкновения, она не рассмеялась его шутке, сидела на стуле подавленная и ждала его "последнего слова". Выживет ли? Может, просто перегрелась на солнце? Да нет, сидела в тени, под деревь- ями, - сам же видел. Его так и подмывало устроить настоящий врачебный осмотр. Положить на диванчик, пощупать живот и печень, нет ли каких затвердений в груди, и как ведет себя селезенка? И что там, собственно, с позвонками? А как обстоят дела по женской части? Это было бы нормально. Это было бы правильно. Но он не мог. Что-то такое примешивалось в его отношение к этой барышне, что он просто приложил к ее жилке на запястье пальцы, чтобы измерить пульс. Ого, как частит! Тут же незаметно нащупал свой - еще чаще. Накапал в стаканчик успокаивающих капель, налил кипяченой воды, которая у него стояла в специальном кувшинчике, накрытом салфеткой. Дал выпить ей и, увидев, что она, сморщившись от горечи, не допила своей порции, допил за ней сам. - Видите, вы меня заразили! Но она не рассмеялась, напротив, расплакалась. - Не уезжайте, не уезжайте, не уезжайте. У него у самого задрожали губы, глупая какая барышня. Может, влюбилась? Или он у нее вроде талисмана, доброго домового? - Пока у вас (точнее было бы сказать "у нас") такой пульс, нельзя мне уезжать. Я же доктор. - Миленький, красивый, добрый! Все-таки исхитрилась и чмокнула его влажным горячим ртом куда-то в нос, а он, разозлившись, шлепнул ее по плоскому заду, как никогда бы не осмелился шлепнуть "даму". - Чтобы знали, какой я добрый! Хотелось догнать и еще, еще ее отшлепать. Какая-то уж слишком инфантильная для своих лет. И неужели не понимает, что не сможет он здесь надолго остаться, не сможет, даже если бы и хотел... "Вот тут и нужен художник!" - плотоядно подумал Дорик и бестрепетной рукой послал телеграмму в контору господина Нагеля, в которой значилось, что из Италии проездом на несколько дней приезжает племянник - скульптор и архитектор Дориан Нагель (пусть он будет Дориков отдаленный предок и тез- ка - зачинатель имени). Встречайте, мол, заморского гостя, царевича Гвидона-Дориана. И завертелось, закрутилось. Мамаша квохчет - ах, Доринька, ах, наш ангельчик! Папаша Нагель утирает горделивые слезы - какой талант, нет, вы подумайте, какой талант! Первая премия на всеевропейском конкурсе проектов памятника Наполеону! Это вам не капусту квасить! А барышня присматривается, молчит, дичится, потом робко показывает ему свои этюды (небрежная похвала), потом приходит к доктору наверх делиться своими впечатлениями. Он непонятный, Петр Андреевич, он совсем непонятный! В конце концов этот чернокудрявый Дориан - тридцати-тридцатипятилетний жгучий красавец, лет этак на семь младше доктора и во всем внешне противоположный его загорелой поджарости, светлоглазости, русым волосам, решает, как подлинно артистическая натура, поселиться во флигеле. В большом доме ему не нравится - мрачно, шумно, не хватает воздуха и "природы". "Мог бы уж дотерпеть до своей Италии, там "природы" - кушай-не хочу!" желчно думает доктор, собирая пожитки. Жить втроем во флигеле он не желает. Но опять врывается барышня, плачет, умоляет, смотрит наивными глазами, говорит, что снова заболеет, что умрет без него, без Петечки Андреевича, и этот Дориан ее чем-то пугает, он такой непонятный (вот приискала словечко!), и она не сможет без него, без Петра, без Петра Андреевича выдержать присутствие этого странно-страшного непонятного кузена. И пусть кузен поселится наверху, рядом с доктором, тогда ей не будет так страшно, а она попросит Дуняшу занять комнату рядом с ней, знаете, где пристроечка? - Еще хотя бы недельку, - просит она наконец тихим, безнадежно-упавшим голосом. Он дотрагивается рукой до ее запястья, до пульсирующей жилки - боже, будто только после марафонского забега; до лба - пылает, а щеки, ее недавно еще бескровные щеки алеют, как пионы. (Дорик совместно с доктором отыскивает сравнение, не слишком заезженное, но ничего вернее, чем "как пионы", не находит, а ранние пионы только что распустились вокруг дорожки к озеру, одуряя призывным чувственным запахом, и сам Дорик время от времени покупает у вокзалов букет пионов и пишет какие-то безумные, нежно-пылающие, влажные, очень чувственные натюрморты.) - Да у вас температура. Сядьте. Он дает ей градусник, нетерпеливо постукивая пальцами по столу, ждет семь-восемь минут и видит, что действительно температура, что, вероятно, подхватила инфлюэнцу. Тут уже начинают суетиться Дуняша, Глаша и мамаша. Они опять что-то переносят из большого дома во флигель, покрикивают, топочут, суетятся, судачат, доктор же отдает четкие сухие распоряжения. В большом доме отменяется ежевечернее лото, папаша Нагель в волнении, мамаша - в полуобмороке. Однако Дориана Нагеля поднявшаяся суматоха вокруг инфлюэнцы кузины не останавливает. Он преспокойно въезжает на верхний этаж флигеля, поселяясь через комнату от доктора. И тот бесконечно благодарен, что не стена к стене. Он Нагеля не выносит, и это, кажется, единственное совпадающее у них чувство. (Странно, но сам Дорик, вглядываясь в прошлое, испытывает к доктору симпатию.) Несколько ночей у ее постели. Жар, бред сливаются с его собственным бредом, когда кажется, что это его дочь, сестра, нет, скорее жена болеет и жалуется. И он подносит к ее рту, стараясь не пролить, чай с лимоном, осторожно сажает на кровати - на барышне опять что-то кружевное, - измеряет то пульс, то температуру и проявляет во всем этом такую чрезмерность, что, как записывает он у себя в тетрадке позднее, только уже несколько окрепший за последнее время организм пациентки помогает ей выдержать этот штурм и натиск врачебного безумия. Он сам так ослаб после ее выздоровления, что пролежал у себя наверху дня два с сильнейшей головной болью, и этими ночами не то в бреду, не то наяву ему мерещилось, что Дориан Нагель, крадучись, спускается по скрипучей лестнице, осторожно открывает дверь к кузине, опасаясь не только доктора, но и горничной Дуняши, поселенной в пристроечке возле барышни, и потом из комнаты кузины слышится шепот, звон бокалов, ее приглушенный безудержный смех... Вынести этот бред - а тем более явь - уже совершенно невозможно, и доктор, чуть оправившись, окончательно собрался уезжать. Барышня поняла это без его слов. Просто взглянула на него, когда он, скучно-сумрачный, спускался вниз по лестнице, и поняла. - Уезжаете, Петр Андреевич? Он кивнул. - Когда? - Скорый до Москвы сегодня ночью. В четыре часа. Пойду попрошу лошадей. Он помолчал, и она помолчала. Дориан спустился вниз и прошел между ними, молчащими, весело здороваясь и напевая какую-то сицилианскую песенку, где в каждой ноте звучало ликующее необузданное признание. После обеда Дориан с Ниной, как теперь повелось, играли в крокет на лужайке. А доктор пошел в последний раз окунуться к озеру. Выходил из воды и вспомнил, как Нина крикнула ему - какой красивый! Теперь-то, небось, красивый этот чернокудрявый, пышущий здоровьем и самодовольством. И зачем было приезжать? Неужели в Москве не хватало практики? Истеричных девиц всюду навалом! Господин Нагель лошадей обещал и, расчувствовавшись, добавил доктору, сверх уговоренных, еще сотню рублей, но Петр Андреевич с раздражением вернул ему лишнее. - Чаевых не берем. - Превосходнейший, милейший вы человек, - бормотал папаша с озабоченным лицом, видно, совсем не понимая, к чему все клонится в его семействе. - А мы, дружочек, кажется, в Италию двинем, - шепнул он доктору как великую тайну. - Тоже здесь не особенно рассидимся после вас. Дориан зовет посмотреть Венецию. Он там снимает нечто вроде виллы-палаццо - как он говорит, - всем места хватит, раз дворец, даже нашей Марфе Ионовне. Так, матушка? Жена Нагеля, в присутствии гостей обычно молчавшая, вдруг произнесла нараспев, добродушно улыбаясь: - А и мне, Павлуша, захотелось посмотреть, что за страна такая - Италия. Говорят, там красиво, как в райских кущах. Вот и наш Дорюшка как херувим ангельского воинства на иконах Богородицы, - волосы смоляные, брови полукружьями. И откуда он, Павлуша, такой раскрасавец? Видно, мать итальянских кровей? (Дорик поморщился. Взглянул в зеркало на свою "артистичную" физиономию и не стал ничего вычеркивать.) - Мать у него, - Нагель подмигнул доктору, - венгерская еврейка. А что раскрасавица, - это точно. И отец капитальчик оставил. - Вот бы нашей Ниночке... Доктору стало скучно дослушивать этот разговор, и он, сухо поклонившись чете Нагелей, вышел из их большого неуютного дома, построенного из кирпичей, который тут же производился монотонно гудящим заводом, миновал высокую ограду с воротами - надо бы еще повыше, чтобы воздух не загрязнялся пылью (первые ростки экологического сознания), - и вступил на "вторую" территорию, где все было иным, светло-праздничным, - но, увы, уже не для него, хотя и колокольчики еще синели в траве, и пионы вдоль дорожки к озеру распушили лохматые свои прически, и с озера слышался заразительный смех барышни, и скамейка под липами поджидала задумчивого читателя... Днем доктор еще раз столкнулся с Ниной. Она, в спортивной короткой юбке, с ракеткой в руке и свежей царапиной на коленке, бежала к флигелю, а он сидел на скамейке, перелистывая "Аполлон", - на лице брезгливая мина. - А мы в Ита... - Знаю. - Папа сказал? - Угу. - Доктор, милый, едемте с нами! - Знаете, Нина, у меня дела. Больные заждались. Да и в редакциях надо показаться. Не в "Аполлоне", конечно, но и не в "Митрофане". - Что за "Митрофан"? Или не поняла, или не пожелала понять его шутки. - Петр Андреевич! - А... Что такое? Она присела на корточки возле скамейки и так, снизу, заглядывая ему в лицо, склоненное над бездарными страницами жеманного журнала, шепнула беззвучно, округляя красные воспаленные губы: - Умоляю вас! - Что-то мне этой ночью послышался шум в вашей комнате, смех... может быть, от дневной жары... - Он же кузен, Петр Андреевич. И он привык в Италии пить вино и петь серенады. Это мы с вами бирюки. А там, он говорит, вечный карнавал. - Так я не ослышался. Дурацкий журнал перелистнулся и захлопнулся на дрогнувшей коленке. - Знаете, чего бы мне хотелось? - все так же снизу вверх глядя на него серыми блестящими глазами. - Луну с неба. После Италии останется желать только луну. - Мне бы хотелось все время так жить... с вами в этом флигеле. И чтобы вы ходили удить рыбу, и вечером играли с родителями в лото. И листали мой журнальчик. И что-то быстро записывали в свой блокнот, а по вечерам работали у себя при свете лампы... - А ночью чтобы к вам приходил кузен. Она резко поднялась, взмахнув короткими волосами и короткой юбкой, досадливо почесала ссадину на коленке, выпятив худые лопатки ("надо бы йодом помазать", - педантично подумал он), и скрылась на дорожке к озеру. ...Он решил не ложиться. Кучер обещал пригнать коляску к трем часам ночи. За полчаса должны были доехать до станции, а там - минутная остановка скорого до Москвы, и начнется что-то новое, другое. А это уйдет навсегда в прошлое. В сущности, все это безумно странно, непостижимо, но что делать, время не остановить. Петру Андреевичу вспомнилась дурацкая фраза художника Серова, переданная Ниной. Репродукции его картин, увиденные в журнале, поначалу вызвали только глухое раздражение - слишком красиво, но потом он выделил для себя детские портреты, с недоверчивым удивлением подмечая в них то, чего сам везде искал, - простоту и искренность сути и ее выражения. Злясь на себя, он ждал прихода Нины, ведь они не только не попрощались, но почти поссорились. Хотя какое это теперь имеет значение? Случай из врачебной практики. Таким и останется в его записях. После двенадцати он ждать перестал, а поднялась она к нему совсем поздно, около двух, испуганная, бледная, в легком халатике, наброшенном опять на что-то кружевное и воздушное, напомнившее ему их первую встречу и его спонтанную фразу о "ночи любви". Вот тебе и ночь любви! Доктор нахмурился. - Идите лучше спать. Мы, в сущности, простились. - Разве простились? Я хочу, хочу... - Баста, как говорят ваши любимые итальянцы. Больше никаких хоте- ний - при мне. - Доктор, Петр Андреевич, миленький! Неужели не поцелуете на про- щанье? - Почему же? (голос чуть дрогнул). На прощание полагается - даже, кажется, трижды. - Он с шутовским лицом шагнул к ней, осторожно обхватил худые лопатки и внезапно для себя задохнулся в томительном, тягучем, бесконечном поцелуе. Она собой не владела - он это видел, - но не пользоваться же припадком экзальтации нервной девицы, которая испытывает преувеличенное чувство благодарности и хочет загладить несуществующую вину? Он с усилием от нее оторвался и сделал вид, что что-то ищет в кармане тужурки. Такие сцены были не в его вкусе - ни в жизни, ни в писаниях. Пусть эти "ночи безумные" пишет младшенький - милый, талантливый и очень зоркоглазый Сереженька Туровский или еще этот, бравый и не бездарный Саша Хасанов, напирая на бурные страсти и выжимая дамскую слезу. У него такого не будет. Суше, строже, холоднее. - Уходи, Нина! Прощай и уходи. - Я... я хотела... - Все, все, успокойся. - Я буду, буду вспоминать, я... - Да, да. Иди к себе. Марш! Сомнамбулически скрылась, а он до самого приезда кучера нервно ходил из угла в угол своей комнаты, что-то бессмысленно перекладывал в саквояже, снимал и надевал тужурку. Садясь в коляску, он видел, как из окна внизу высунулась белая фигура со свечой - белая дама средневековых замков. - Простудитесь, - успел он выкрикнуть последнее врачебное наставление, и кучер рванул. Хотя "рванул" - сильно сказано. - Эх, пожалел Пал Егорыч хороших-то лошадей, - бормотал кучер. - Говорит, скоро самим понадобится! И коляска опять была дрянная, скрипящая и охающая каждой своей частью. Петру Андреевичу это было уже почти безразлично, только усталый мозг отметил странное повторение, похожее уже на закономерность. Простая, в сущности, истина - знай свое место, дружок. С медицинской холодностью анализируя нынешнее душевное состояние, он пришел к выводу, что в Москве ему сейчас жить нельзя. Надо подаваться на юг, на Украину - к сестре и матери. К теплу и заботе нерассуждающей, животной, преданной любви. А в Москве, так и быть, выпьет на ночь бутылку красненького. Ух, и напьется же он в Москве! Бедная, бедная печень.