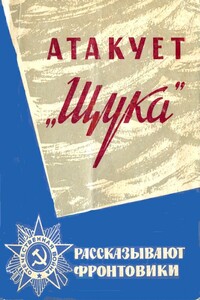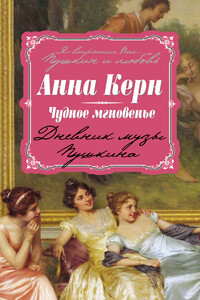— Начнет обстреливать — разбегайтесь. А мне уж, видно, так положено.
Выехали на дорогу. Все глаза устремлены на небо. Только бы успеть проскочить до прилета «мессеров»! Водитель жмет на всю железку.
Вот и знакомая деревушка. Дорога запетляла в молодом осиннике. Теперь уже не взять нас «мессеру»!
Давыдин склонился над раненым:
— Отвоевались, товарищ лейтенант. Пока вылечитесь — и войне конец.
Старший сержант Фома Рыженков недоверчиво покачал головой:
— Нет, Лешка, еще воевать да воевать... Вытурим немца со своей земли, потом в другие страны пойдем. Надо с корнем эту фашистскую заразу вырвать. Навсегда!
Наш спутник — миноискатель
Июль 1944 года. Пламя войны полыхает в Западной Белоруссии. Солнце меркнет от дыма пожарищ.
По Брестскому шоссе безостановочно идут колонны бойцов. Громыхают гусеницы танков, тягачей, самоходных пушек. Скорей к Бресту, к границе! Эта мысль владеет каждым из нас.
22 июля дивизия завязала бои непосредственно на подступах к городу. Эскадрильи краснозвездных «илов» сбрасывают на позиции противника сотни фугасных бомб. Город окутан бурой завесой пыли и дыма.
Крепко доставалось гитлеровцам от наших У-2, прозванных на передовой «кукурузниками». «Кукурузник» появлялся внезапно, летел низко, и, когда доносился стрекот его мотора, схожий с шумом швейной машины, одновременно сыпались и бомбы.
Однажды «кукурузник» помог нам захватить «языка». В поиск направили группу сержанта Пшеничко. Ночью разведчики проникли в хуторок, занятый немцами. Над хутором затарахтел «кукурузник» и сбросил фугаски.
С криками: «Ньюмашине!»[11] — гитлеровцы в панике стали разбегаться. Один из них, спасаясь от «кукурузника «, забежал во двор как раз того дома, где засели разведчики. Его быстро скрутили.
Все дороги, ведущие к Бресту, гитлеровцы заминировали. Мины понатыканы всюду: и на шоссейных трактах, и на узеньких тропках, петляющих среди луговой поймы, и на железнодорожных насыпях. Всюду притаилась смерть. Берегись! Сделаешь неосторожный шаг — взлетишь на воздух!
И стал нашим незаменимым спутником в разведке миноискатель. Только один сержант Пшеничко все от него отмахивался:
— Буду я с такой штуковиной возиться. Без него обойдусь.
И верно. Пшеничко, казалось, носом чуял мины. Бывало, идем проселочной дорогой, он вдруг остановится и командует:
— Стоп!
Удивляемся мы: дорога как дорога, ничего нет подозрительного. А он твердит:
— Вот тут коробочка с шоколадом спрятана, а тут мармелад зарыт.
Присмотримся — и впрямь: тут земля чуточку взрыхлена, там дерн потревожен.
В роте Пшеничко откровенно завидуют: ну и везет же сержанту. Как ни пойдут пшеничковцы в поиск, с пустыми руками не возвращаются: то «языка» приволокут, то трофей прихватят. А мне кажется, не в везении дело, в мастерстве. Прежде чем проникнуть куда-либо, Пшеничко все просмотрит, все продумает до мелочей. С «авоськой» да «небоськой» не дружит сержант. Зато и любят своего командира бойцы! И за отличное знание дела, за высокие душевные качества, за простоту и скромность. Он никого не изругает понапрасну, не назовет черным словом.
26 июля меня вызвал командир роты:
— Захватите с собой группу и проберитесь в город. — Он на секунду задержал меня и каким-то проникновенным тоном сказал: — Знайте, что это боевое задание на нашей советской земле — последнее. Завтра мы начнем освобождать Польшу.
Командир подвел меня к карте. Вот он, Брест. Заштрихованные четырехугольники уличных кварталов, темные кружочки бастионов, пестрая лента железнодорожной магистрали. Брест-Литовск. Последний город Советской Белоруссии, находящийся еще у фашистов.
Сердце у меня ликовало. Думал ли я тогда, простой разведчик, стоявший в развороченном фугаской окопе под Болховом, под страшным неприятельским огнем в грозный август сорок второго года, что мне выпадет счастье сражаться за Брест — город на границе. О легендарной стойкости его гарнизона, защищавшего город в первые дни войны, мы еще не знали.
На задание вышли во второй половине дня. Пересекаем болотистый луг. Ноги вязнут в иле. Однако идти болотом безопаснее, чем проселочной дорогой: четверть часа назад, двигаясь по проселку, мы едва не напоролись на мины. Первым их заметил Давыдин. Указывая на свежевскопанные кружочки земли, он сказал: