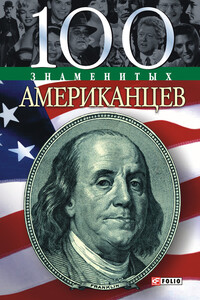- Она на лестнице плачет.
- Плачет? - удивленно переспросил директор и направился к выходу. Я провожал его косым, тревожным взглядом.
Вот он толкнул дверь и с силой захлопнул ее, но она приоткрылась. И я увидел на лестнице Люську. Она стояла все там же, только перегнулась через перила и изредка вздрагивала. Директор положил ей на спину руку:
- Что с тобой, Цветкова?
Люська молчала.
- Зайди ко мне.
Он взял ее под руку и ввел в кабинет.
- Что-нибудь случилось?
- Нет. - Люська утирала слезы и говорила, ни на кого не глядя. - Я ногу расшибла.
Я с благодарностью взглянул на Люську и облегченно вздохнул.
- А я уж подумал, что-нибудь хуже, - произнес директор. - А это ничего. До свадьбы заживет. Правда, Большаков?
Я скривил рот наподобие улыбки.
Директор немного пошутил надо мной, а когда Люська успокоилась, неожиданно спросил:
- Вы хорошо знаете Офонина?
Я насторожился. Зачем ему понадобилось про Саньку спрашивать?
Вспомнил лесное побоище, от которого под моими глазами еще не совсем пропала желтизна синяков, и, в упор уставившись на директора, старался понять - знает он или нет.
- Хорошо, - как-то неуверенно ответил за всех Витька.
- Вот поэтому-то я вас и позвал.
Директор достал со стола конверт, посмотрел на него и задумался. Потом провел рукой по волосам и мягко заговорил:
- Это письмо с фронта от его отца. В нем он просит меня рассказать ему о поведении сына и его учебе. Вот я и решил с вами посоветоваться. Как ни печально, а я знаю Офонина только с плохой стороны.
Мы насупились.
Директор окинул нас пристальным взглядом.
- Но у него есть что-то и хорошее. Вы об этом знаете лучше меня, вот и давайте вместе решать: какое письмо послать его отцу на фронт.
Слово "фронт" директор как-то особенно выделил, произнес сильнее и жестче.
И мы поняли, зачем он это сделал: положение на фронте было крайне тяжелым. Враг еще стоял всего в 120 километрах от Москвы, вступил в предгорья Кавказа, вышел к Волге.
Можно ли было в такое тяжелое время написать на фронт о Саньке горькую правду?
Нет, нельзя.
Мы так же, как и директор, знали Саньку только с плохой стороны... Мы были злы на Саньку. У меня от его кулаков не прошли еще синяки, а у Люськи царапины, и все-таки мы начали фантазировать и рассказывать директору о хорошем Саньке.
Директор слушал нас внимательно. Он, может быть, и понимал, что мы прихвастываем, но ему так же, как и нам, не хотелось писать Санькиному отцу горькие слова. И мы все вместе написали на фронт теплое, хорошее письмо.
Послали его и уговорились о нем молчать.
Однако Санька откуда-то все пронюхал.
Он был убежден, что мы написали о нем плохое, и перестал ходить в школу.
А нам было не до Саньки.
Все думали только об одном - об исходе Сталинградской битвы.
В коридорах теперь ученики не кричали, не смеялись и не прыгали, а собирались кучками и, как взрослые, серьезно рассуждали о войне. Уроки проходили тихо.
Учителя большую часть времени рассказывали нам о героической борьбе в Сталинграде.
Мы слушали, затаив дыхание, и от всей души сожалели, что не можем уйти туда - на фронт. Тревога за судьбу своей Родины с каждым днем возрастала в наших сердцах и разжигала до боли злую ненависть к врагу.
- Неужели их, гадов, не разобьют? Неужели они захватят Сталинград? спрашивали мы друг друга и лихорадочно следили за газетами.
Но газетные строчки не приносили нам радости. От отца нам тоже не приходили письма.
Мать тосковала. На душе у меня было мрачно. А погода, как назло, взбесилась.
Бушевала пурга.
Дни и ночи угрожающе гудел холодный ветер. А к концу недели, двадцать третьего, он так разыгрался, что невозможно было понять, где небо, где земля. Сплошное месиво из снега.
В это утро мы с Витькой сбились с дороги и пришли на занятия в школу с большим опозданием.
Мокрые, усталые, с трудом перешагнули высокий порог коридора и от изумления остановились.
В нашей школе творилось что-то непонятное.
Занятий не было. Двери всех классов настежь открыты. По коридорам, толкаясь и подпрыгивая, беспорядочно носились ученики и, не жалея глоток, кричали "ура".