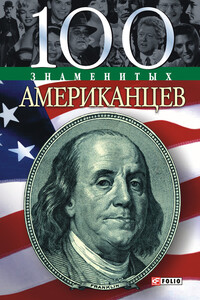В моем сознании теплилась слабая надежда, что за все пережитое горе там меня ожидает какая-то радость. А дома меня подстерегало горе.
Мать сидела у окна и, облокотившись о подоконник, беззвучно плакала. С боку к ней сиротливо прижалась сестренка.
На столе лежал нераспечатанный треугольник письма. Я взглянул на него и невольно отшатнулся. Это было мое последнее письмо, которое посылал я отцу месяц назад. На нем стоял черный штамп: "Адресат выбыл".
Тяжелое предчувствие беды стиснуло мне горло, но я поборол себя и, как мог, спокойно произнес:
- Не надо, мам. Его, наверно, в другое место перевели.
- Ох, не знаю, Вова. Чует мое сердце неладное. Давит здесь вот. Больно. - И она бессильной рукой провела по груди.
Я отвернулся и понуро ушел в переднюю.
Уроки в этот вечер я, конечно, не учил.
К нам пришли соседки. Они сочувствовали нашему несчастью и еще сильнее тревожили мать. Она то плакала, то, вздохнув грустно, начинала рассказывать сны, которые ей снились в последние ночи.
Чаще всего во сне она видела тихое лесное озеро с прозрачной холодной водой, и соседки утверждали, что чистая вода к слезам.
Я не верил этому. Не верил, что сны могут чего-то предсказывать.
Мать говорила, что если во сне увидишь собаку, то непременно встретишься с близким другом. Однако мне нередко снились собаки, а друзья почему-то не встречались.
Слыхал я и то, что если приснится машина, - будет письмо.
Но когда я ждал записку от Люськи, я за одну только ночь увидел тысячи машин, а записки не получил. Нет, не верил я снам. Не верил, что с отцом могло что-то случиться, и все-таки глубокая тревога притаилась во мне и всю ночь не давала покою.
Утром пришел я в школу хмурый.
"Где отец? Что с ним?" - задавал я себе вопросы, а через полминуты вспоминал вчерашний день и с упреком думал о Люське; волком косился на Витьку и невольно от обиды сжимал кулаки.
Вдруг во время большой перемены нас с Витькой и Люськой вызвали к директору школы. "Еще что-нибудь случилось", - подумал я и, выйдя из класса, равнодушный, готовый ко всему, зашагал по крутой, плохо освещенной лестнице.
В это время в дальнем конце коридора раздался веселый Люськин смех. Он уколол меня, и я остановился. Мне захотелось дождаться Люськи и причинить ей боль. Хотелось сказать что-нибудь такое, отчего бы она надолго перестала смеяться. Я перебирал в уме всякие обидные слова и не мог ничего придумать, и только когда Люська поравнялась со мной, я неожиданно для себя прошипел:
- Ты знаешь, зачем нас вызывают?
- Нет.
Люська беспокойно взглянула мне в лицо.
- А я знаю. Директору сказали, что ты с Витькой по лесу шляешься.
Люська удивленно подняла брови и попятилась назад.
- Что, неправда? Напугалась? - наступал я на нее. - А кто летом к тебе в кладовую приходил? Что молчишь? А кто вчера под сосной стоял с Витькой? Я ведь все слыхал - знаю.
- Слыхал? - прижимаясь к перилам, испуганно выронила Люська.
- Да, слыхал. Не бойтесь, не удавлюсь.
Я прыгнул через две ступеньки и с яростью распахнул кабинет директора.
Витька был уже там. Подпирая плечом круглую обитую железом печку, он стоял вполуоборот ко мне.
Директор сидел за столом и что-то писал. На стук захлопнувшейся двери он приподнял свои усталые глаза и улыбнулся:
- Утов, ты смотри поосторожнее.
- А чего я, Александр Петрович?
- Да так, ничего. Только печка у нас не того... плохонькая: Не сковырни ее.
Витька жалко улыбнулся и вытянулся в струнку.
- А где же Цветкова?
Мы молчали.
Я исподлобья поглядывал на Витьку и каждую секунду ждал, что откроется дверь, но она не открывалась. Пролетело несколько минут, а Люська не приходила.
- Кажется, она была аккуратной. Иди-ка, Утов, позови ее.
Я вспыхнул. Я понял, что, разговаривая с Люськой, хватил через край, и, уставясь на пол, бессмысленно разглядывал загнутые носы своих старых сапог.
Витька быстро возвратился. Он остановился у порога, опустил голову и молчал.
- Ну что? - шагнул к нему директор.
Витька переступил с ноги на ногу и отвернулся.
- Нашел ее?
Тишина.
- Ну и что же ты молчишь?
Витька нерешительно поднял глаза: