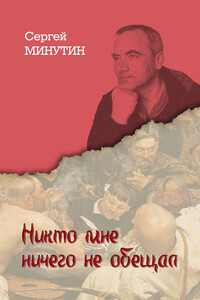Глава двадцать седьмая. Сенатор и рабы
А в это время Демон – крат и Диктат – крат рубились в картишки.
Лицевая сторона карт в руках Диктат – крата всё время меняется. С лица сенатора сходит ирония. Его взгляд устремлён на самые верхние трибуны амфитеатра. Там орёт и беснуется «чернь». Рабы и свободные граждане Рима восторгаются Спартаком. Нравы Рима.
Сенатор глядя на эти толпы вдруг ясно осознаёт, как многолик стал Рим. В нём всё перемешалось. Часто невозможно понять, кто раб, а кто свободный гражданин, кто аристократ, а кто просто богат. Сенатор давно разглядел, что в многоликой толпе не сила, а слабость Рима. Кто защитит его Рим, если все хотят только жрать его плоть и пить его, Рима, кровь? Даже рабам здесь лучше, чем на родине. Они давно стали считать, что Рим – это дойная корова для всех, что так было всегда – сытно, весело, развратно. Вот и его жена, благородная Валерия, стала в Риме всего лишь искусной развратницей. Её распаляет и вид гладиатора, и вид покрытого пылью погонщика ослов, и вид актёра на сцене, выставившего свои гениталии на показ. Дама из высшего общества…
Сенатор знал о её любовной связи со Спартаком и размышлял, произнося слова вслух, выдыхая их в крике, поддавшись общему восторгу и стараясь быть как все: «Рабы хотят новых прав…АААААА и привилегий…Свободу Спартаку…ААА». В воздухе стоял один сплошной гул.
Сенатор видел, как по лицам рабов разливается счастье.
«Ещё бы, – думал он, различая лица рабов, которых пленил сам, – Вон того, я пленил в дремучих лесах Германии и из варварства он попал в рай Рима. А вон тот из Египта. У себя на родине ему не давали лизать даже подошвы сандалий мёртвых слуг фараонов, а тут он развернул небывалую коммерцию. А с вот с тем, подбадривающим гладиаторов, пришлось повозиться на берегах далёкого острова, умел махать мечом. Рим его сделал свободным через гладиаторские бои. Варвары в Риме слишком быстро осознают свою значимость, чтобы понять, чего стоило такое устройство Империи. Они решают, что раз им сразу и столько дали, значит можно требовать ещё больше. Но если требования выдвигаются рабами, то свободные граждане Рима совсем теряют меру.
Сенатор вдруг подумал, что надо ковать новый щит для Рима, и этот щит будет ковать он через Спартака. Слишком велико стало население Рима для спокойной жизни. Легионерам всё труднее сдерживать вспыхивающие недовольства. Легионеры стали всё чаще требовать увеличения своего содержания. Но можно зайти и с другой стороны. Рабы ведь могут и восстать все и сразу. Тогда на первый план выйдет «не содержание», а собственная жизнь. Свободные граждане Рима умеют сплачиваться в трудные дни. Выгоды очевидны, сократится общее население Рима, уцелевшим станет легче «дышать», мера восстановится, требования исчезнут, наступит покой.
И в это же время, в глухом Забайкальском гарнизоне, где-то по середине Даурской железнодорожной ветке, в полуразрушенной пятиэтажной «хрущёбе», на грязной кухне сидели и пили спирт два офицера. Они тупо смотрели телевизор, стоящий на привинченной к стене полке. Из закуски на столе были только сигареты. Окурки давно вываливались из пепельницы. Звук телевизора был вывернут на всю «катушку». Шла прямая трансляция футбольного матча. Трибуны стадиона периодически взрывались рёвом: «Спартак – чемпион». Одновременно с рёвом в стену начинали стучать соседи.
Обоим офицерам было совершенно наплевать и на матч по футболу и на соседей. Один был «молодой», дикорастущий капитан, взявший на себя роль филёра. Он был совершенно безвреден и всеми любим, ибо стучал об общих тенденциях, а не о частных случаях и стучал исключительно в рамках своей должности. Это нравилось боевому братству, но совсем не устраивало его начальство, поэтому он и рос капитаном уже лет 15 год. Да и ссылать его дальше было некуда. Только в Китай или Монголию, но это уже заграница. За что ж, чекисту, такое счастье?
Второй был под стать первому, только весь седой. Объединяли их три вещи: оба жили в России, оба не были ворами и оба были друзьями детства. Первый был «особист», второй «зампотыл».