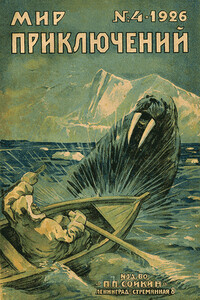Мужики сермяжники боярским сынкам и прихвостням их ребра пересчитали знатно, не скоро теперь в свару полезут.
Сидели они в избе у бабы-харчевницы, ждали, пока вытащит та из печи варево и достанет хлеб. Ждан все еще не мог прийти в себя, гудело в голове, и то, что сидит он бок о бок с Упадышем, казалось, было во сне. Хоть и бродил он почти год по пятам за старым другом, но все не верил тогда, что Упадыш жив и ходит по земле и песни поет. Сидел теперь рядом с ним живой Упадыш, старый дружок — не дружок, а отец родной. Борода у Упадыша стала совсем седая, лицо густо опутали морщины, и голос не тот, стал уже сдавать, но глаз левый, веселый, смотрит по-прежнему весело и озорно. Когда услышал, что в Смоленске заказывал Ждан попу отпеть по нему панихиду, лукаво подмигнул:
— Не припасена Упадышу еще колода по росту. А помру, положат в колоду, схоронят в землю — и там стану на гусельках песни играть, грешников потешать.
Ждан припомнил, что он месяцами, а то случилось — год целый, не притрагивался к гуслям и не играл песен. Было так, когда ушел он из Смоленска, а потом, когда жил на подворье у попа Мины в Пскове и хотел постичь всякую премудрость, книжной грамоте тогда научился, а мудрости так и не постиг, а потом было тоже совсем закинул гусли в чулан, когда жил у ласковой вдовки Смеянки и думал, что не скоморохом ему быть нарекли при рождении рожаницы, а мужиком-пахарем, и ему стало жаль напрасно потерянного времени. А Упадыш рассказывал, как было дело в Смоленске.
— Велел пан наместник кинуть меня и бочара Ивашку в тюрьму, а утром, чуть свет, пришел кат и с катом жолнер — во двор на релю волочить. Ивашко из стены цепь выдернул и кату голову проломил, а жолнеру мы глотку кушаком стянули да и в лес ушел, у мужиков смолокуров хоронился, лежал на лавке, пока кость срослась. А Ивашко плыл и воды нахлебался, его наместниковы слуги выволокли из воды и на дворе удавили. Чего про меня врали, будто и меня удавили, — не ведаю.
Вспомнили покойных ватажных товарищей: Клубнику, Чунейку Двинянина и смоленского кузнеца Олешу Кольчужника, велели бабе-харчевнице принести меду покрепче, выпили по ковшу за помин души покойничков, повздыхали, что нет с ними старых дружков, на чужбине, в литовской земле, тлеют их косточки.
Рассказал Упадыш и о Якушке Соловье. Попался Якушко со своими молодцами под Москвой в лихом деле. В каком, точно неизвестно, говорят свел у мужиков со двора коней. Конских татей, Якушкиных товарищей, судья велел повесить при дороге, Якушко от петли бежал, спасал голову который уже год, в Новгороде. Правда или нет, так слышал Упадыш от людей. Песен Якушко не поет, голос утопил в хмельном питье, кормится кулаками, у боярских приспешней заводилой. Не раз уже ломал с молодцами ребра мужикам-вечникам, какие не согласны с тем, что бояре запевают, и кричат на вече: «Не любо!» А бояре запевают — Руси изменить, под руку королю податься. Того и идет в Великом Новгороде не разбери что.
Упадыш жил в Плотницком конце, на Бояньей улице. Улица одним концом протянулась к Волхову, другим выходила к глиняным ямам. Дворы здесь лепились тесно, вкривь и вкось. Во дворах жили мужики-рукодельцы: плотники, скорняки, сапожники, кожемяки. От кож летом дух на улице тяжкий, кожемяки лили из чанов прямо среди улицы, всюду насыпаны горы золы. Ближе к реке, у самого почти Волхова, стояли дворы житьих людей — Данилы Курбатича и Ондреяна Константиновича.
Изба у Упадыша новая, срубил недавно с просторными сенями и чуланом. Доглядывала за двором Окинфья Звановна, дородная старуха, доводившаяся Упадышу кумой. Она же готовила Упадышу и Ждану варево, пекла хлебы.
Ходили Упадыш и Ждан вместе. Песни пели больше о Садке, Ждан таких песен сложил несколько. И стар и млад слушали об удалом купце, затаив дыхание, даяние в колпак бросали щедро. О Москве Ждан больше петь не пробовал, Упадыш ему сказал — не пришло еще время. Когда придет время, не сказал, и Ждан спрашивать его не стал.
Часто Упадыша и Ждана зазывали к себе играть купцы, случалось бывать и у бояр. Узнал Ждан, что Микула Маркич с женой зиму зимует в городе, весну и лето больше живет в подгородной вотчине, сам приглядывает, чтобы холопы в работе не лукавили, а мужики, не утаивали из того, что должны давать господину в оброк.