— А как же? — Михаил Иванович зачем-то оглянулся на дверь. — Без аванса нельзя.
— Сколько же ты просишь? — с какой-то обидой осведомился Александр Гаврилович.
— К примеру?
— Да.
— Что ж, тут как на духу, в сторону не шагну: семьдесят пять.
— Да это же целая сумма!
— Понимаю.
— Это же целый бюджет! А вдруг ты завтра заявление мне на стол — и где тебя искать?
— Это с детьми-то?
— Да хоть бы и с ними.
— С женой хворой? С узлами?
— Детей-то у тебя?..
— Трое, — соврал Сиволапов.
— Так… Н-ну, хорошо. Двадцать пять подпишу. Но это ты имей в виду!
— Не-ет! — закряхтел разочарованно Михаил Иванович. — Да какие же это деньги?
— Что? Плохие?
— Зачем плохие? Только сказать по правде — бессильные они. Не поднимут. А мне, а я, — заволновался Михаил Иванович в поисках особенно убедительных доводов, — я самостоятельно хочу наладить хозяйство, а не как некоторые.
— Которые?
— Которым хвост ветер набок заносит.
Александр Гаврилович задумался. Сиволапов затаенно посапывал, глаза его припухли еще больше — момент был острый, решительный, и сердце его сильно и тревожно стучало. Наконец председатель водрузил на нос очки и вывел на заявлении резолюцию: выдать в счет зарплаты сорок пять рублей.
VI
«Ну, с благополучным приземлением вас, Михаил Иванович», — поздравил сам себя Сиволапов. Теперь ему дышалось легче. И село другим повернулось боком, улыбнулось милым, простым своим обличьем, участливо заглянуло в глаза нового человека. И хотя еще предстояло добираться до хутора, который так славно называется — Талы, и центральная усадьба казалась уже близкой, чуть ли не родной. Сюда придется наведываться по разной надобности, появятся знакомые, друзья найдутся, и покатится жизнь по широкой своей дороге.
Глядя на эту вольготную походку из окна кабинета, Александр Гаврилович вдруг налился раздражением, помял озлевшими глазками залетного этого мужика и не удержался от восклицания:
— Во идет… Замминистр, понимаешь! Даже удивляюсь!
— Кого, чего? — спросил басом случившийся в кабинете зоотехник.
— Я так не хожу, а он идет! — подпрыгнул от возмущения в кресле Жмакин.
— А ему что? С него спрос отсутствует!
И как только прозвучало слово «спрос», на плечи, на голову Александра Гавриловича сию же секунду навалились заботы. Они сгустились в рой, заслонили от председательского взора и новоявленного колхозника, и походку его, и аванс. Развернувшись к зоотехнику всем своим чурбанистым корпусом, без разгона пошел Жмакин с ругани, с «понимаешь», с вопросов — почему, да до каких пор, да когда будет наведен порядок на ферме, да отдает ли он себе отчет?
Страдальчески подняв тяжелые брови, зоотехник слушал привычный разнос.
В Петровке не было своего клуба, не от скудости, а из расчета: кто в нем будет развлекаться? Дворов всего ничего, небольшая ферма возле — и всё.
Но в бесклубной этой Петровке жил заядлый танцор Кузя. И каждый вечер он снаряжался в соседнее село. Начищал кирзовые сапоги, накидывал на шею белое кашне, набивал карманы семечками… Душой весь был там, в большом селе с магазинами, многолюдьем возле них, блеском электрических огней.
И лишь одно омрачало его приготовления — Катерина. Обязательно она встретится ему на пути. Желанным называла Кузю. И голос ее звучал глубоко и нежно, и нежности этой дичился он больше всего.
— Желанный! — и брови Катерины поднимались вверх, и вся она устремлялась к нему со своею ломающейся, то горькой, то счастливой улыбкой.
— Ну ты, как дурочка, — отчитывал ее Кузьма. — Ты погляди на себя, какая ты… Ох, Катерина, отойди ты, говорю, от меня.
Катерина особенно-то и не преследовала Кузьму. Но лишь завидит его, до того вся засветится, что даже соперницы Катерины, глядя на нее, стали укорять Кузьму: зачем приворожил, зачем губишь? Не видишь — любит она тебя, женись!
— Какой там любит! Видали мы такую любовь, знаем что почем, — бесстыдно отмахивался Кузьма и равнодушно смотрел вдаль поверх голов… Все ему в Петровке надоело, давно в нем крепла мысль — в город уехать.
Последний вечер он решил провести с Катериной. Любит? Значит, пусть докажет это свое чувство — в деньгах Кузя нуждался. Даст да с тем, глядишь, и отвяжется.
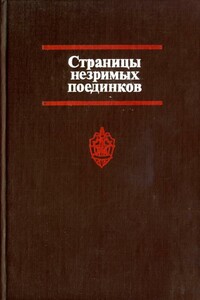


![Неоседланные лошади [Сборник рассказов]](/uploads/books/images/1c/1c16ca2920b359b5ad73cd59634fdad6e7101e6f.jpg)
