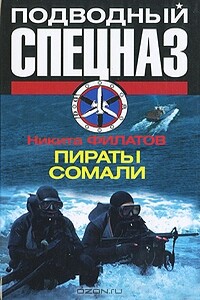– Мои заслуги перед Рейхом достаточно велики, чтобы я был избавлен от сомнительной чести вытирать свинячье заразное дерьмо...
Ни слова не говоря, Месснер расстегнул кобуру, вынул пистолет, передернул затвор и навел на старика.
Тот потерял дар речи, уставившись в пистолетный зрачок.
– Полагаю, что я исчерпывающе ответил на вашу реплику, – спокойно сказал штурмбанфюрер, пряча оружие в кобуру.
Берг промолчал. Лицо его покрылось влажными красными пятнами.
– Что произойдет, если мы заразимся? – осведомился доктор Грюнвальд, до сего момента безмолвствовавший.
– То, что вы заразитесь, – пожал плечами Месснер. И успокаивающе добавил: – У нас есть пенициллин.
– С 1941-го года используется, – проворчал Моргенкопф. – Нет ли чего посвежее? Пенициллин не всегда эффективен.
– Увы, – сокрушенно отозвался тот.
– А будет ли вводиться пенициллин подопытным?
– Не всем. Его получит половина контрольной группы инфицированных и оба члена основной.
– С инфекцией более или менее ясно. А как быть, если мы подвергнемся радиоактивному облучению?
– В какой-то степени мы все ему уже подвергаемся. Это неизбежно. Влияние радиации на человека изучено плохо, так что я не в состоянии должным образом ответить на ваш вопрос.
Месснер лгал. Он был из немногих, пусть поверхностно, но посвященных в разработку оружия возмездия, где изучение лучевой болезни шло полным ходом. Результаты впечатляли. И Месснер собирался приложить все усилия к тому, чтобы для него самого эти данные не сделались актуальными.
На секунду он отвернулся, и доктор Моргенкопф украдкой провел ребром ладони по горлу.
Вероятно, он намекал на какие-то будущие события. Не вполне было ясно, к кому он их относит – к себе и коллегам или же исключительно к Месснеру.
– Все обязуются пользоваться просвинцованными фартуками, – продолжил штурмбанфюрер.
Но это известие никого не утешило.
– С какого рода излучением нам предстоит иметь дело? – бесстрастно осведомилась Лессинг.
– Пока что с гамма-лучами, так как их разрушительный потенциал куда выше, а нам приходится работать, что называется, по максимальной ставке. Но в перспективе наверняка будут задействованы и другие виды.
Возможность перспектив как таковых немного радовала. Они обещали некое будущее. Но их содержание не обнадеживало.
– Да, вот еще что, – будто только сейчас вспомнил Месснер. – Предлагаю вам сдать оружие. Оно вам не понадобится...
Глава десятая
РАСОВАЯ НЕПОЛНОЦЕННОСТЬ
Вокруг Сережкиной камеры уже который день разворачивалась какая-то суета, но его самого никто не трогал.
Ему приносили пищу, ежедневно измеряли температуру и давление, выслушивали легкие, смотрели горло, мяли живот – с доброжелательными улыбками, с профессиональной деликатностью. На второй день заточения взяли анализы, и всем перечисленным до сих пор и ограничивались.
Между тем в возне, отзвуки которой доносились до его слуха, угадывались прежние семена чего-то жуткого. Да, жуткое угадывалось во всем – это чувство не покидало Сережку уже очень долго, и ему начинало казаться, что никакой прежней жизни у него не было. Были только последние месяцы, а все остальное происходило с кем-то другим. Потому что жизнь ужасна в принципе, а все, что не подпадает под эту характеристику, есть заблуждение и галлюцинация.
Довольно часто до него доносились вопли – в этом смысле трюм «Хюгенау» ничем не отличался от лазарета Валентино. Они звучали слева и справа, сильно ослабленные переборками; мироощущение Остапенко извратилось настолько, что ему представлялось диким не участвовать в этом несомненном страдании. В то же время он понимал, что его берегут для чего-то худшего.
Спустя несколько дней в камерах слева наступила многозначительная тишина. Сережка анализировал. Слева начали кричать раньше, чем справа; раньше и перестали. Одно из двух: либо за правые каюты взялись позднее, либо над его товарищами проделывали не одинаковые процедуры, и справа эффект запаздывал.
Каждое утро начиналось с ожидания того, что справа тоже замолчат.
Но он не дождался этого, за него взялись раньше.
В утро, ничем не отличавшееся от прочих, в каюту-тюрьму вошла большая группа людей в защитных костюмах. Явились все, хотя Сережка этого не знал. В экспериментаторах сосуществовали два чувства: естественный страх и научный интерес. Вернее, интерес ребенка-дебила, увлеченно отрывающего насекомому лапки. Такое любопытство нередко лежит в основе естествознания.