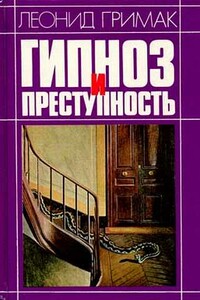Это было умение, которое он тщательно взращивал, — повышать информированность разума с помощью физических занятий. Черчилль шел в музей, где изучал картины, а через день пытался воспроизвести их по памяти. Или пробовал запечатлеть по памяти же пейзаж. (Это было похоже на привычку читать стихи вслух.) «Живопись бросала вызов его интеллекту, взывала к его чувству красоты и пропорций, высвобождала творческие устремления и умиротворяла его», — заметила его давняя подруга Вайолет Картер. Она также вспоминала: это было единственным, что Черчилль делал молча.
Дочь Мэри отмечала, что рисование и ручной труд для отца «были великолепным противоядием от токсинов, выделяемых депрессивными элементами его натуры». Черчилль был счастлив, поскольку вместо головы заставлял работать тело.
Это оказалось крайне необходимым: в 1929 году его политическая карьера, казалось, бесславно завершилась. Изгнанный из политической жизни, Черчилль провел десять лет в Чартвелле, а в это время Невилл Чемберлен с другим поколением британских политиков потворствовал растущей угрозе фашизма в Европе.
Жизнь поступает так. Дает нам пинка под задницу. У нас могут отобрать все, ради чего мы работаем. Вся наша сила может в один момент обратиться в бессилие. Что делать после этого — вопрос не только духа или разума; это вопрос реального физического выживания: что делать со своим временем? Как справиться со стрессом?
Ответ Марка Аврелия: в таких ситуациях нужно «любить привычную дисциплину и позволить ей поддерживать вас». В 1915 году после провала Дарданелльской операции[102] Черчилль писал, что чувствовал себя как «морская тварь, вытащенная из глубин, или слишком быстро поднятый водолаз; мои вены ныли от падения давления. Я мучительно тревожился, но у меня не было средств, чтобы избавиться от волнения; у меня были неистовые убеждения и слишком мало власти, чтобы воплотить их в жизнь». Именно тогда он взялся за живопись, а в 1929 году, испытав аналогичное недомогание, связанное с давлением, вернулся к дисциплине и своим хобби — для улучшения самочувствия и размышления.
Черчилль не мог знать, что середине 1930-х его нахождение вне власти во время перевооружения Германии было именно тем, что требовалось. Чтобы не пробивать себе путь обратно, нужна была стойкость. Если бы Черчилль прорвался в этот момент обратно в политику, он запятнал бы себя некомпетентностью своих коллег в правительстве. Он, вероятно, был единственным британским политиком, кто переварил «Мою борьбу» Гитлера (если бы это сделал Чемберлен, возможно, Гитлера остановили бы раньше).
Неожиданно высвободившееся время позволило Черчиллю активно заняться писательской карьерой и работать на радио, что сделало его знаменитостью в Америке (и вдохновило эту страну на возможный союз с Великобританией). Он проводил время со своими золотыми рыбками, детьми и красками. Он был вынужден ждать. Впервые в жизни, за исключением тех послеобеденных мгновений на крыльце, ему не нужно было ничего делать.
Смог бы Черчилль возглавить Британию в ее звездный час, если бы позволил унижению политического изгнания сокрушить свой разум, проникнуть в душу и вынудить пробиваться обратно в центр всеобщего внимания в те годы? Хватило бы ему энергии и стойкости взвалить на себя страну в шестьдесят шесть лет и руководить ею, как будто не было этого «потерянного» десятилетия, если бы в эти годы он поддерживал свой привычный бешеный темп?
Почти наверняка нет.
Сам Черчилль писал, что каждого пророка нужно отправлять в пустыню, чтобы он прошел испытание одиночеством и лишениями, чтобы размышлял и медитировал. Именно из этого физического испытания, по его словам, и производится «психический динамит». И когда Черчилля позвали, он был готов. Он отдохнул. Он мог видеть то, чего не могли видеть другие. Все боялись Гитлера, а Черчилль — нет.
Вместо этого он сражался. В одиночку. Выступая 4 июня 1940 года в палате общин, он сказал:
Даже если огромные просторы Европы, многие древние и прославленные государства попали или могут попасть под пяту гестапо и других гнусных машин нацистского правления, мы не сдадимся и не проиграем. Мы пойдем до конца, мы будем сражаться во Франции, бороться на морях и океанах, мы будем с растущей уверенностью и растущей силой сражаться в воздухе, мы будем защищать наш Остров, какова бы ни была цена, мы будем драться на побережьях, в портах и на суше, в полях и на улицах, мы будем биться на холмах; мы никогда не сдадимся, и даже если так случится, во что я ни на мгновение не верю, что этот Остров или бо́льшая его часть будет порабощена и будет умирать с голоду, то тогда наша империя за морем, вооруженная и под охраной Британского флота, будет продолжать борьбу до тех пор, пока, в благословенное Богом время, новый мир, со всей его силой и мощью, не отправится на спасение и освобождение старого.