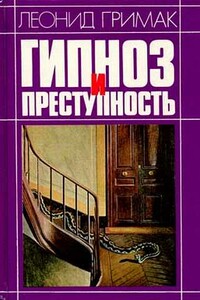В три часа дня наставало время сиесты. После двухчасового сна — время семьи, затем вторая ванна, а около восьми вечера — чинный ужин. После ужина он еще писал некоторое время перед сном.
Этот распорядок дня Черчилль не менял даже на Рождество.
Черчилль был трудолюбивым и дисциплинированным, но, как и все мы, не идеальным. Он часто работал больше, чем следует, обычно из-за недопустимых трат (и это породило изрядное количество текстов, которые лучше было бы не публиковать). Черчилль был импульсивен, любил азартные игры и был склонен брать на себя лишнее. Однажды он нарисовал себя в виде свиньи, несущей поклажу в двадцать тысяч фунтов. Вдохновило его на эту автокарикатуру не неутомимое исполнение военных обязанностей, а потакание собственным слабостям.
Его жизнь не была бесконечной чередой триумфов. Он совершил множество ошибок, особенно когда мозг вскипал от стресса. Из Первой мировой войны Черчилль вышел с неоднозначной репутацией. Он ушел в отставку и отправился на фронт командовать батальоном Королевских шотландских фузилёров. После войны он был назначен военным министром и министром авиации, а затем министром по делам колоний.
В середине 1920-х Черчилль стал канцлером казначейства (должность не его уровня), а также подписал договор на создание шеститомного (три тысячи страниц) отчета о войне под названием «Мировой кризис». Предоставленный самому себе, он пытался не сломаться под этой невероятной нагрузкой. Окружающие видели, насколько ему тяжело. Они советовали найти какое-нибудь хобби, способное доставить хоть чуточку радости. «Помните, что я говорил об отдыхе от текущих проблем? — писал Черчиллю премьер-министр Стэнли Болдуин. — Скоро начнется важный год, и многое зависит от вашей формы».
В своей типичной манере он выбрал неожиданную форму отдыха: кладку кирпича. Мастерству его обучили два каменщика в Чартвелле, и он сразу же влюбился в медленный методичный процесс перемешивания раствора, работы мастерком и возведения стены. В отличие от прочих занятий — политики и литературы — физическая работа не изнашивала его тело, а заряжала энергией. Черчилль мог укладывать до девяноста кирпичей в час[100]. Он писал премьер-министру в 1927 году: «У меня был чудесный месяц, когда я строил коттедж и диктовал книгу: двести кирпичей и две тысячи слов в день». (Еще несколько часов уходило на министерские обязанности.) Один друг наблюдал, как приятно Черчиллю спускаться с политических высот на землю. Средняя дочь Сара была его лучшим подмастерьем и подавала отцу кирпичи.
Темные годы Первой мировой вдохновили Черчилля еще на одно хобби — масляную живопись. Леди Гвендолин[101] однажды увидела похожего на кипящий чайник деверя и предложила ему для снятия стресса кисти и краски своего сына. В небольшой книге Painting As a Pastime («Живопись как времяпрепровождение») Черчилль красноречиво говорил о том, что новые сферы деятельности включают другие части нашего разума и тела, чем освобождают перегруженные. «Культивирование хобби и новых форм интересов — политика первостепенной важности для общественного деятеля, — писал он. — Чтобы быть по-настоящему счастливым и благополучным, нужно иметь как минимум два или три увлечения, и все они должны быть настоящими».
Черчилль не был особенно хорошим художником (профессионалы часто подправляли и его кирпичную кладку), но один взгляд на его картины показывает, насколько автор наслаждался работой. Это ощущается по мазкам. «Просто рисовать — это здорово, — говорил он. — На краски приятно смотреть, и их приятно выдавливать». Один известный художник посоветовал Черчиллю никогда не колебаться перед холстом (другими словами, не думать слишком много), и он принял совет. Его никогда не пугала и не обескураживала нехватка собственных умений (только этим можно объяснить мышь, которую он добавил на бесценное полотно Рубенса, висевшее в одной из резиденций премьер-министра).
Живопись была для Черчилля воплощением радости. Отдыхом, а не работой.
Как и все хорошие хобби, живопись учила исполнителя присутствовать. «Это возвышенное чувство наблюдения Природы, — писал политик, — одно из главных наслаждений, которые появились у меня благодаря попыткам рисовать». Сорок лет он был поглощен работой и амбициями, но из-за живописи его взгляды и восприятие существенно обострились. Вынужденный замедлиться, чтобы поставить мольберт, смешать краски и ждать, пока они высохнут, он начинал видеть то, что ранее мог упустить.