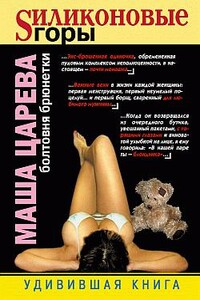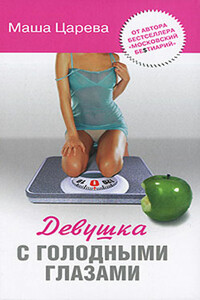в) хорошая кожа. Даже в пубертатном возрасте лицо мое не бугрилось воспаленными прыщами. У меня лицо молодой селянки — цветущий румянец на белом атласе, ненавязчивая россыпь еле заметных веснушек.
На этом дары природы ограничиваются. И начинаются недоразумения — жесткие спутанные волосы, похожие на растрепанный пеньковый канат, сутулая спина, узкие губы, небольшие невразумительно-серые глаза.
Одним словом, некрасивая я. Вот и все. О внешности моей — достаточно.
Я происхожу из интеллигентной московской семьи. Отец — посольский работник, мать — банковская шишка, бабушка — бывшая балерина, вся жизнь которой сосредоточена в жестяной коробке из-под конфет, набитой черно-белыми фотографиями. Она до сих пор весит сорок семь килограммов и начинает утро с разминки у станка. Прабабушка (она умерла, когда мне было всего восемь лет, но я отчетливо ее помню) любила, задумчиво глядя вдаль, вспоминать, как ей доводилось сидеть на коленях у Антона Палыча Чехова.
С самого детства меня шпыняли так, что мало не покажется. Балетное училище — впрочем, садизм исчерпал себя не по моей вине: через полтора года утомительных экзерсисов и казавшейся недоразумением диеты педагогиня отозвала мечтающую о моей будущей славе бабушку в сторону и, сочувственно улыбаясь, покачала головою — я переросла всех сверстниц и в балерины явно не годилась (в тот вечер я в первый и последний раз в жизни видела бабушку плачущей, даже на дедовых похоронах она только молча вздыхала — видимо, похоронить въевшуюся в каждую пору кожи мечту оказалось сложнее).
Музыкальная школа — все школьные подруги играют во дворе, а я, гастритно-бледненькая, уныло плетусь со скрипочкой под мышкой.
Уроки шитья и рисования — в нашей семье считалось, что женщина должна уметь сшить себе платье. И даже (!) занятия этикетом под руководством похожей на высушенную рыбину женщины, неустроенная личная жизнь которой была написана на ее лице.
Мне было четырнадцать лет, когда впервые ограниченная строгими рамками жизнь показалась мне тесной, как старое платье. До этого я воспринимала свое расписанное по минутам существование как непреложную данность — кто-то родился с носом, похожим на корабельный руль, у кого-то веснушки, кто-то заикается, а вот я вынуждена тратить время на кажущиеся бесполезными занятия.
Помню, тот май выдался по-летнему солнечным. В субботу мои одноклассники договорились поехать на Медвежьи озера. Моего внимания тогда горячо добивался некий Данила Донецкий — он был плечистым, высоким и каким-то взрослым, по нему страдало большинство девочек нашей школы, но почему-то его угораздило влюбиться в меня. Неисповедима ты, игра подростковых гормонов! На уроках он, совершенно не стесняясь, сверлил меня серьезным влажным взглядом. Не улыбался, перехватывая мою вопросительную улыбку. Не пытался, подражая другим, поймать меня в полупустом классе и, прижав к испачканной мелом доске, потискать под глумливый гогот остальных. Не писал слащавых посланий. Не выведывал о моей жизни у подруг. Зато несколько раз провожал до дома и даже напрашивался познакомиться с родителями.
— Боюсь, мои родители тебя не порадуют, — передергивала плечами я, — моя семья слегка не в себе.
— У тебя замечательная семья, — без улыбки возражал Донецкий, — когда-нибудь ты поймешь.
Так вот, восхитительным субботним утром, золотым, солнечным, пахнущим сиренью, возбуждающим адреналин, все мои одноклассники отправились на Медвежьи озера, ну а я осталась дома, по самые уши заваленная шитьем. Уроки кройки и шитья мне давала известная в узких кругах портниха, специалист по театральным костюмам. Считалось, что я делаю успехи. Меня немножко коробило от бабушкиных надежд на то, что в один прекрасный день, с отличием окончив Текстильную академию, я смогу стать костюмером, устроюсь работать в театр и хотя бы таким приземленным образом приобщу свое жалкое существо к таинству высокого искусства. Я сидела у открытого окна, забрав прилипающие ко лбу волосы в высокий хвост, и возилась с нижними юбками, когда вдруг в дверь позвонили. Открыла бабушка, с удивлением я услышала, как ее молодой для семидесяти лет голос перебивает знакомый басок Данилы Донецкого. Я замерла с иглой в руках. Через несколько минут дверь в мою комнату приоткрылась, и в нее втиснулся сопровождаемый недовольной бабушкой Донецкий.