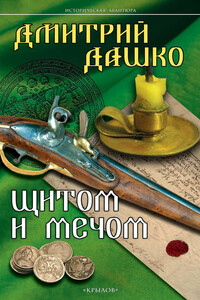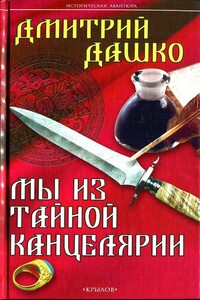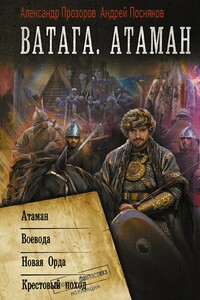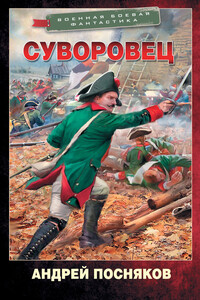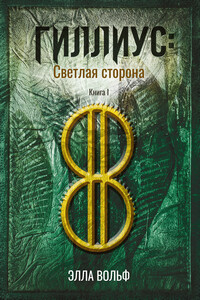милее нет:
сияньем дланей
она озаряла…
«Старшая Эдда»
Горячий воск стекал по тонкой свече, горячими каплями застывая на руке Олега. Рядом, в полумраке церковного благолепия, горячо молился Гришаня, по щекам его текли слезы.
— Пресвятая Богородица Тихвинская… — шептали губы подростка, глаза его благоговейно взирали на икону Божьей матери — Одигитрию Тихвинскую. Олег Иваныч тоже испытывал волнение, хоть никогда не считал себя слишком религиозным. Тем не менее… То, что он до сих пор жив, в значительной степени можно было объяснить только чудом…
В Пречистенский Тихвинский погост Олег и Гришаня прибыли вместе с людьми своеземца Мефодия, тем нужно было на местный рынок. Мефодий крепко обнял обоих на прощанье и даже прослезился. Подарил Олегу новую пестротканую рубаху и ярко-голубой зипун немецкого сукна с медными пуговицами. Затем посмотрел на развалившиеся кроссовки бывшего майора и, подумав, вытащил из сундука пару коротких сапог лошадиной кожи с тисненым узором. Сапоги оказались впору — нигде не жали, не промокали и, несмотря на отсутствие каблуков, были вполне удобны.
Почему Олег Иваныч решил последовать с Гришаней, а не остался у Мефодия, он и сам толком ответить не мог. Ну, сидел бы у Мефодия, охотился бы. Может, набрел бы случайно на то самое место, где… где открывалась дыра во времени, что ли, если так можно выразиться. Но, вообще, не факт, что набрел бы. Он уж и забыл, где это. Только приблизительно помнил, и то не был уверен… А вдруг дыра эта уже больше и не открывается? А если и открывается, то, может, раз в сто лет? Значит, не стоит сидеть сиднем у черта на куличках, а попытаться добраться до того же Новгорода, а там… Что «там», Олег Иваныч пока представлял себе крайне приблизительно, вернее, почти вообще никак. Правда, еще со школы помнил о том, что средневековый Новгород был красивым и богатым городом, которому постоянно приходилось отражать нападения крестоносцев да разных прочих шведов. Вот, пожалуй, и все.
Олег Иваныч отпустил небольшую бородку, перевязал отросшие волосы узким кожаным ремешком и, в дареном зипуне, сапогах и пестрой рубахе, ничем не отличался от местных жителей, правда, кроме джинсов, кои он, по здравому размышлению, оставил — уж больно прочными и удобными они были, к тому ж почти не отличались от местных портов, ежели не очень присматриваться…
Он перекрестился на Тихвинскую Одигитрию — может, поможет?
Народу здесь, в церкви Успения Богородицы, толпилось много и всякого. Начиная от зажиточных своеземцев и купцов и заканчивая откровенными оборванцами крайне подозрительно вида, встречаться с которыми в темных безлюдных местах даже Олегу, несмотря на все фехтовальные приемы да самбо, не хотелось бы. Хряпнут кистенем по башке — никакое самбо не поможет! Вообще, времечко вокруг стояло лихое — без оружия народ на улицу выходить не рисковал, нож или узкий кинжал завсегда к поясам пристегивал, а больше всего — кистень. Вот и Олег Иваныч с подачи Гришани обзавелся таковым сразу же по приезде — таскал повсюду при себе в калите, на поясе, рядом с двумя серебряными новгородскими деньгами и горстью медной мелочи. Монеты представляли собой трофеи, добытые от ушкуйников Тимохи Рыси и честно поделенные между всеми сражавшимися, включая Олега Иваныча с Гришаней.
Сняв шапки, люди истово молились, Олег Иваныч, на всякий случай придерживая на поясе кошель-калиту, украдкой рассматривал молящихся, не очень-то желая увидеть среди них угрюмую рожу Тимохи или козлиную бородку Митри. Нет, покуда таковых видно не было.
Внимание его привлекла молодая женщина, поставившая аж две свечки на помин души. В длинном черном покрывале, в черных же, ниспадающих до самой земли одеждах, с бледным красивым лицом и большими золотисто-карими глазами, она казалась словно сошедшей с иконы. Он смотрел на нее не отрываясь, уже не украдкой, и женщина вдруг что-то почувствовала, обернулась, встретившись взглядом с Олегом. Тот вздрогнул — в красивых золотистых глазах ее стояло целое море печали и застывшей неизбывной боли…
Он молчал всю дорогу до двора отца Филофея — настоятеля Успенской церкви, где они с Гришаней остановились, потом уже, вечером, когда сели ужинать, спросил, словно бы невзначай, кто такая.