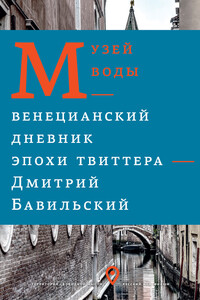Шкура литературы. Книги двух тысячелетий - страница 20
Принципиальная схема нашего социального устройства остается неизменной со времени возникновения-изобретения древнейших государств в Египте и Междуречье: правители/жрецы/воины/рабочая сила (касты Индии; сословия Франции, России или Китая; сегодня – это правящая элита, создаваемая масс-медиа и шоу-бизнесом знать, силовые структуры, производители и потребители товаров и услуг). Но в судорогах и корчах История вовлекает в свое движение все большее количество людей. Ученики Руссо, коммунисты, считали, что целью Истории является создание общества, в котором свободное развитие каждого станет залогом или результатом свободного развития всех. Мечтать не запретишь. И все же нельзя оспорить, что у Истории имеется если не цель, то направление – оно ведет к оптимизации человеческих ресурсов. Для этого границы сословий и каст должны стать проницаемыми – чтобы, скажем, крестьянин (при определенных способностях, упорстве и везении) мог стать академиком или маршалом. Тогда как до Руссо и его последователей, Робеспьера и К., даже карьера Наполеона Бонапарта была невозможна в принципе (оттого роялисты и республиканцы окрестили его «узурпатором», а честолюбцы и поэты романтизма превратили образ Наполеона в икону).
Так устроено наше мироздание, что в природе существует кислород – чтобы гореть, органика – чтобы расти, переваривать и гнить, и смерть – как орудие обновления. Что не способно или не желает эволюционировать, либо снимается с доски по правилам, как шахматные фигуры, либо сметается бунтом и смутой. Исторический прогресс (как, впрочем, и технический) – своего рода трехтактный двигатель. Вначале, откуда ни возьмись, появляются мечтатели (такие как Руссо и французские энциклопедисты, улавливающие общественные настроения, создающие заразительные образы и формулирующие задачи), затем приходят герои (Робеспьер с гильотиной, Наполеон с империей и всевозможные «бесы» социальных утопий), а всходы на их могилах – на перепаханном и расчищенном поле – пожинают прагматики (третье сословие, то есть буржуазия, а затем и пролетариат). Экий чудовищный перерасход жизненной энергии и миллионы человеческих жертв, чтобы всего лишь заменить отжившую социальную структуру более жизнеспособной!
Два столетия спустя фигуры подрывателя основ Вольтера, мечтателя Руссо и полководца Наполеона представляются связанными друг с другом странным образом – словно вершины «Бермудского треугольника», погубившего величие Франции ради процветания европейской цивилизации. Наполеон относился к Руссо не без ревности и солидарности – как к такому же выходцу из безвестности и нищеты, сумевшему добиться своим пером мировой славы. У Руссо никакого отношения к Наполеону быть не могло (он умер, когда будущему императору не исполнилось и десяти лет), но в диких корсиканцах ему мерещилась свежая сила, способная оздоровить погрязшую в пороках Цивилизацию: «В «Общественном договоре» я говорил о корсиканцах, как о народе новом – единственном в Европе, еще не испорченном законодательством, и высказал мнение, что на такой народ нужно возлагать большие надежды, если ему посчастливится найти мудрого руководителя». По просьбе нескольких влиятельных корсиканцев Руссо даже принялся набрасывать для них план, типа «как нам обустроить Корсику».
Руссо с Вольтером были заочными заклятыми друзьями-врагами. Несомненно, они ревновали к славе друг друга, но все личное в их отношениях являлось лишь следствием идейного антагонизма апологета Цивилизации (Вольтера) и апологета Природы (Руссо). Француз Вольтер скрывался от гонений на территории Женевской республики, а швейцарец Руссо предпочел своей «мачехе», Женеве, Париж и его окрестности. Оба они не дожили до Великой Французской революции, но даже после смерти оказались неразлучны. Когда до Руссо дошло известие о кончине восьмидесятичетырехлетнего Вольтера, он не на шутку разволновался в свои шестьдесят шесть лет: «Чувствую, что моя жизнь связана с его жизнью; он умер, скоро и я умру». Как сказал, так и поступил – через месяц с небольшим. Но перед тем с ним успел познакомиться боготворивший его, юный, неказистый Робеспьер. Именно Руссо, а не Вольтера якобинцы признали своим духовным отцом и идейным вдохновителем в годы революции. Вольтер был слишком критичен, язвителен, аристократичен – с ним хорошо было опрокидывать и разрушать, но в качестве революционной хоругви он не годился. Чтобы объединить толпу на более длительный срок, нужна была позитивная иллюзия, высокие цели, патетика – все то, что в избытке присутствовало в сочинениях «неподкупного» плебея Руссо. Останки обоих литераторов якобинцы с почестями перенесли в Пантеон, но им недолго пришлось там лежать. После первого отречения Наполеона вернувшиеся к власти роялисты выкинули их оттуда, а затем еще несколько десятилетий опустевшие саркофаги Вольтера и Руссо то отправлялись в ссылку в подвал, то вновь возвращались на свое почетное место.