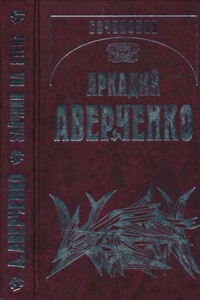И когда прошло три-четыре года после того, как Шерлок Холмс оторвался от своего индивидуального, случайного создателя и канул в самую глубь многомиллионного моря человеческого, он вынырнул оттуда на поверхность и, снова воплотившись в литературе, предстал перед нами, как нью-йоркский сыщик, король всех сыщиков — Нат Пинкертон.
Боже, как сильно он переменился за эти 3–4 года, и как знаменательна эта перемена! Есть ли что в мире сейчас знаменательнее ее?
И вот чуть только Шерлок Холмс оторвался от своего индивидуального творца и перешел к творцу коллективному, как тотчас же он утратил все те нарочито поэтические и романтические черты, которые так усложняли и украшали его личность.
Конечно, не Бог знает что такое эти романтические черты, — они только перелицованные лоскутки прежней байроновой и шеллевской идеологии, пришитые к Холмсу на живую нитку ловким литературным портным.
И к тому же лоскутки эти так пристегнуты, что все швы наружу; тем не менее были же эти лоскутки на Шерлоке Холмсе, и литературный закройщик зачем-нибудь да счел нужным их к своему герою пристегнуть.
Здесь же (подчеркиваю), стоило только Шерлоку стать героем соборного творчества, как все эти героические, романтические и поэтические лоскутки моментально оказались отодранными. Видимо, в них пропала и надобность.
Куда девались тонкие пальцы Шерлока Холмса, и это гордое его одиночество, и величавые его жесты? Куда девался Петрарка? Где Сарасате с немецкой музыкой, «которая глубже французской»? Где диссертация? Где письма Флобера к Жорж Занд? Где грустные афоризмы? Где подвиг как самоцель? Где гейневский юмор и брандовский идеализм?
Все это, все исчезло и заменилось — чем? Огромнейшим кулаком.
«Злодей! — зарычал великий сыщик и сильным ударом свалил преступника на пол», — здесь единственная функция Ната Пинкертона.
В одной книжке о подвигах Ната Пинкертона, в «Павильоне крови», читаю:
«Сыщик нанес преступнику удар по голове, так что тот лишился сознания и через несколько секунд был уже связан».
В другой книжке — «Заговор негров», читаю: «Нат Пинкертон нанес негру еще один страшный удар снизу по руке, а в следующий момент вонзил нож до рукоятки в грудь Самми. Тот с пронзительным воплем опрокинулся назад».
В третьей книжке — «Велосипедист-привидение», читаю: «В этот момент сыщик поравнялся с преступником и на полном ходу нанес ему такой удар кулаком в бок, что тот на секунду потерял власть над велосипедом».
В четвертой книжке — «Таинственный конькобежец», читаю: «Сыщик моментально подлетел, бросился на него, вырвал револьвер и нанес ему несколько сильных ударов по голове, так что совершенно оглушил негодяя, и после этого сейчас же наложил ему наручники».
Я прочитал пятьдесят три книжки приключений Ната Пинкертона — и убедился, что единственно, в чем Нат Пинкертон гениален, это именно в раздавании оплеух, зуботычин, пощечин и страшных, оглушительных тумаков.
<…>.
У Пинкертона вместо души — кулак, вместо головы — кулак, вместо сердца — кулак, и действие этого кулака от него только и требуется.
Кулак во всех формах и во всех проявлениях: Пинкертон стреляет, колет, режет, рубит людей, как капусту, безо всякой жалости — и если подсчитать, сколько он истребил человеческих существ в десяти только книжках своих «похождений», то получится население хорошего провинциального города. Я уверен, что в Нью-Йорке есть специальное кладбище для жертв этого Ната Пинкертона, и что погребальные процессии день и ночь тянутся туда непрерывно.
<…>.
И хорошо, и приятно миллионному читателю. Все в этих книжках так хорошо и прекрасно: преступники истребляются на электрических стульях, идеальные герои получают бумажники; кровавая месть царит, как и в Патагонии, а гениален тот, у кого самый сильный кулак.
Да здравствует Нат Пинкертон, владыка, идеал и герой миллионов!
Так вот каким вынырнул Шерлок Холмс через три, через четыре года после того, как он утонул в пучине готтентотского моря.
И глянув ему в лицо, и заметив, как страшно он переменился, и зная, что перемена эта не случайная, а необходимая, неизбежная, созданная миллионами людей, воплотившими в нем свою душу, я вижу, что все пропало, и что надежды ниоткуда ожидать нельзя.