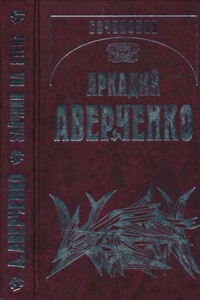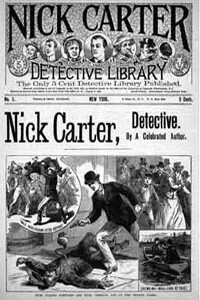Он презирает и деньги, и славу, и почести. Пусть все это возьмет себе бездарный полицейский инспектор, а с Холмса довольно собственного величия.
Как прекрасен он в такие минуты! Полицейский инспектор с изумлением спрашивает:
— Вы не желаете, чтобы в моем докладе по начальству было упомянуто ваше имя?!
— Не имею ни малейшего желания. Самое дело служит мне наградой.
Бедный полицейский инспектор, ему не понятна душа поэта. Он не читал «Строителя Сольнеса»[30]. Он не знает, что всякий подвиг — есть «вещь в себе». И ему ли понять это гордое слово, обращенное поэтом к поэту:
Ты царь. Живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд…
[31]Но Шерлок Холмс, тот проникнут этими заветами насквозь. Ибо в нем каждый вершок — поэт. Искусство для искусства — вот его закон и пророки. А если он иногда и «требует наград за подвиг благородный», — то до слез умилительно читать, каковы эти награды. Вы думаете, деньги — о нет! Я никогда не забуду, как один презренный немецкий принц, которого Холмс только что пытался избавить от притязаний его прежней любовницы, сказал нашему поэтичному сыщику:
— Я вам бесконечно обязан. Пожалуйста, скажите, чем вас вознаградить. Вот кольцо.
Принц снял с пальца кольцо с очень крупным, конечно, изумрудом и протянул его на ладони Холмсу. Но что же делает Холмс? О, конечно, Холмс отрицательно качает головой и указывает глазами на карточку бывшей любовницы принца:
— Ваше высочество, — говорит он, — обладает более ценным для меня сокровищем.
— Пожалуйста, назовите его.
— Карточка.
Принц смотрит на него с изумлением.
— Карточка Ирены! Ну конечно. Берите, берите ее!
— Благодарю вас. Моя роль окончена. Имею честь кланяться.
Холмс круто поворачивается и, как бы не замечая протянутой руки принца, выходит из комнаты.
Вот жесты и слова настоящего героя. Это те вечные, героические слова и жесты, которыми всегда отвечали презренной толпе великие люди всех веков.
Как жаль, что не Шиллер — автор Шерлока Холмса!
Холмс стал выпрашивать карточку этой дамы, ибо, вы догадываетесь, он беззаветно влюбился в нее.
Это ничего, что он хотел ей напакостить и шпионил за нею как мог. Он любил ее и тогда, — не пошлой, конечно, не грубой любовью, какою любим мы все, а тонкой, эфирной, особенной, как любят поэты и сыщики. Таким его воспевает его восторженный менестрель и летописец — лорд Артур Конан Дойль.
Но вот произошло нечто необычайное.
Этот романтический, нежный, рыцарский образ вдруг на наших глазах изменяется, перерождается, эволюционирует, отрывается от своего создателя, Конан Дойля, как ребенок отрывается от материнской пуповины и, как миф, как легенда, начинает самостоятельно жить среди нас.
Появляется во всем мире множество безымянных книжек о подвигах Шерлока Холмса, его лицо изображается на табачных коробках, на рекламах о мыле, на трактирных вывесках, о нем сочиняются пьесы, и дети затевают игры в «Шерлока Холмса», а газеты всех стран делают это имя нарицательным. Все дальше и дальше уходит Шерлок Холмс от своего первоначального источника, все больше кипит и бурлит вокруг него соборное, коллективное, массовое, хоровое, мировое творчество.
В основе происходит то же, что было когда-то, когда творился и жил живой жизнью мужицкий народный эпос.
<…>.
Точно то же произошло, говорю я, и с Шерлоком Холмсом. Многомиллионный читатель, восприняв этот образ от писателя, от Конан Дойля, стал тотчас же незаметно, инстинктивно, стихийно изменять его по своему вкусу, наполнять его своим духовным и нравственным содержанием — и бессознательно уничтожая в нем те черты, которые были ему, миллионному читателю, чужды, в конце концов отложил на нем, на его личности свою многомиллионную психологию.
И таким образом получился, впервые за все века городской культуры, — первый эпический богатырь этой культуры, первый богатырь города, со всеми признаками и особенностями эпического богатыря.
Только: при деревенской культуре такое преобразование случайного лица в эпического героя, или эпического героя одной страны в эпического героя другой — происходило в течение двух-трех веков, а при культуре городской, когда так дьявольски ускорился темп общественной жизни, это случилось в 3–4 года. Только и разницы, что в этом.