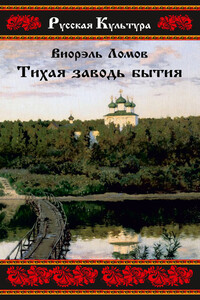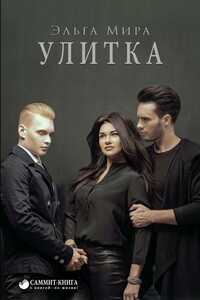В это время из столовой вышел водитель автобуса и, перебив рассказчика, обратился, дожёвывая, к здоровенному мужику, который, возьмись он играть в домино, по восемь костяшек в руку брал бы:
– Чем накормили? Колитесь, деревянные! Обычно щи – хоть полощи, а тут котлеты с крысу ростом. Никак, опять собачатина? И что-то я ни Лярвы, ни Стервы не вижу, ни Шарнира. Где собачки делись?
Здоровяк, ковыряя в коричневых зубах щепкой, отколотой тут же от скамейки, неторопливо ответствовал, что Шарнира решили не трогать – он мазутом так пропитался, что уже и не облизывается, так сам себе противен, да и не мудрено, коль весь мехцех об него руки полгода вытирает. Курву съели ещё на новый год, не перловкой же закусывать, Лярву едят сейчас, а Стерва вымачивается в уксусе в бане скоро как два дня. И осторожно поинтересовался:
– Пополнение в нашей помойке или как?
Игорь объяснил, что пока ходит в рабочих, а там – как начальство решит: то ли за Ильёй Алексеевичем по полигону трость и шляпу носить, то ли ходить в шляпе самому, поскольку тот чем-то не угодил начальству, да и болеет.
– Ясно, – спокойно отозвался здоровяк, – это по-нашенски. Три года отпахал, а теперь – пинком. От каждого, как говориться, по способностям, каждому – по морде. Знакомо дело.
Народ докурил и начал расходиться. Кто мочился на ленивец убитого Т-130, кто тащил дрова в балок. Кто-то, уже невидимый в темноте, по блатному свистнул и, подражая Ленину, картаво продекламировал непонятно в связи с чем:
– Да здгавствует ансамбль стукачей Большого театга! Витя, врачи рекомендуют прикладывать к больному зубу здоровую колбасу, а к больному мужику – здоговую бабу.
Другой местный юморист пел ненамного хуже Лемешева, одновременно справляя малую нужду с крыльца:
– Я поцелуями покрою твою кабину и капот!
За мужиками, не подозревая об их коварстве, молча пробежал небольшой чёрный пёсик. По всей видимости, это был Шарнир.
Калачёв замёрз и пошёл, так сказать, домой. Влюблённая пара продолжала ворковать на всю округу, из коридора вылетали матери и половые акты. Ворковал в основном Машуткин, а его словарный запас богатством не отличался. Владелец бесконечного запаса матерей и актов сидел на том же месте, куря папиросу и стряхивая пепел на всё в радиусе протянутой руки. Столиков тоже курил, но пепел тряс в баночку из-под китайской тушёнки «Великая стена», уже полную окурков. После таёжной свежести Игорь чуть не задохнулся, но на улицу идти тоже не хотелось: там крепчал мороз. Главный, не обращая внимания на вошедшего, громко, как глухому, выговаривал потупившемуся деду:
– Ты! Ты тут был! За главного. И тут. Тут! Была пьянка. А это… Это – нарушение устава артели!. Фамилии пивших сегодня же указать в докладной. Сегодня же!
– Да мы же на Новый Год! На праздник тридцать пять бутылок на двадцать два человека выпили в столовой, закусили, за жизнь поболтали и спать разошлись, – оправдывался дед, оказавшийся и вправду малость глуховатым.
– Ты! Ты тут был за начальника! – с теми же интонациями и, видимо, далеко не во второй раз напирал Машуткин. – А это. Это! Нарушение устава артели!
Столиков замахал руками и, размазывая слёзы под очками, пискляво закричал:
– Я больше не могу! Я увольняюсь. Я у вас больше не работаю. Вы, – он вздохнул глубже, – вы меня унижаете!
– Я? Я тебя унижаю?
– Да!
– Нет. Ты! Ты мне скажи: Я что? Это я? Я тебя унижаю?
– Да!
– Нет, ты! Ты мне скажи: Когда я тебя унижал? Эй, я его унижал?
Более тупого диалога Игорю слышать ещё не приходилось. Кто сказал, что человек – это звучит гордо? Это звучит отвратительно!
Пошатываясь, зашёл Боренко. В отличие от своего начальника, он был мужик спокойный, ни на кого не шумел, сколько бы ни выпил, но и за других не заступался, ибо хорошо усвоил: артель – курятник, – клюй ближнего и гадь на нижнего, а заступишься за кого – себе дороже выйдет.
– Ребята, давайте жить дружно! – тихонько произнёс он единственную цитату, которую помнил, и уже смелее предложил: – Начальник! Пойдём, захлебнёмся да подавимся.
Тот посидел ещё минуту, зло переводя взгляд с жертвы на Игоря и обратно, как бы показывая последнему, что и с ним он церемонится не будет, и ушёл. Столиков курил одну «беломорину» за другой, руки его заметно тряслись. Калачёву было неудобно распоряжаться в пока ещё чужом доме, но дышать было нечем, а хотелось. Потому он приоткрыл окно, потом, видя, что сосед невменяем, вынул из рюкзака боевую литровую кружку, кипятильник, почерпнул воду из стоящего на заваленном всяким хламом и засыпанного хлебными крошками, сахаром и заваркой столе цинкового ведра и через минуту заварил чай.