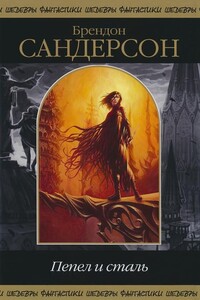— Прости. Честное слово, я пытался, но ты такой эксперт. Все время вспоминается Бен Джонсон.
— По-твоему, это я все шутки шучу.
— Да нет, ты жутко серьезен. А сценические эффекты куда круче всех потуг Джорджа Вагнера в «Докторе Фаусте» — склянки с зародышами на полках, этот потир… Освященный, разумеется?
Мордехай кивнул.
— Так я и думал. А эти перстни, которые ты сегодня нацепил, масонские?
— Чрезвычайно древние. — Он гордо растопырил пальцы.
— Да, Мордехай, публика должна просто валом валить. А что на бис?
— Сам понимаешь, если с первого раза не выгорит, какой еще бис. Сроки поджимают. Только, черт побери, выгорит! На этот счет я даже не волнуюсь.
Я изумленно покачал головой. Я все не мог решить, Мордехай сам заворожил себя собственной (блестящей, спору нет) шарлатанской риторикой, или это не более чем придаток к афере масштабом покрупнее — так сказать, интермедия. Я даже начал прикидывать, какие у него шансы при наличии достаточного времени обратить в, свое безумие меня — если не силой доводов, так хоть благородным примером своей по-истукански неуступчивой серьезности.
— Почему тебе это кажется таким нелепым? — по-истукански неуступчиво, серьезно поинтересовался Мордехай.
— Такое сочетание фантазии и фактов, безумия и логики. Да взять хоть эти вон книги у тебя на столе — Витгенштейн и Вреден. Ты же их, правда, читаешь? — Он кивнул. — Верю. Вот — да и к тому же, вообще, что это за софистика, нет, дьявольщина байроническая… маразм просто какой-то котелки, зародыши в бутылях.
— Ну, я стараюсь как могу модернизировать алхимические процедуры, но мое отношение к чистой Науке, с большой буквы, сформулировал лет сто назад один коллега-алхимик, Артюр Рембо:
«Science est trop lente». Слишком она медлительна. И насколько медлительнее для меня, чем для него! Сколько мне осталось? Месяц, ну два. Будь это даже не месяцы, а годы, какая разница? Наука подвержена, и фатально притом, второму началу термодинамики — магия же вольна из моральных соображений податься в глухой отказ. Если в этой вселенной я должен умереть, такая вселенная меня не интересует, вот в чем дело.
— То есть ты предпочел самообман.
— Еще чего! Я предпочел бегство. Свободу.
— Местечко ты для этого нашел самое подходящее.
Мордехай, которому давно не сиделось, скатился с дивана и принялся, жестикулируя, расхаживать по комнате.
— Нетушки, здесь-то я более всего и свободен. Лучшее, на что мы можем надеяться в конечном и несовершенном мире, — это раскрепостить собственное сознание, а лагерь Архимед уникально — оборудован для того, чтобы позволить мне как раз эту свободу, и никакую другую. Может, стоит сделать исключение для принстонского НИИ передовых разработок — насколько я знаю, дело там поставлено примерно, как у нас. Понимаешь, тут я могу стоять на своем несмотря ни на что. А в любом другом месте по умолчанию начинаешь приспосабливаться к обстоятельствам, перестаешь сопротивляться, встречать в штыки зло и несправедливость — и безнадежно себя компрометируешь.
— Бред и софистика. Это ты просто подгоняешь теорию под ситуацию.
— О Саккетти, от тебя ничего не утаишь. Только, если разобраться, бред и софистика мои не лишены смысла. Назначь главным тюремщиком в этом вселенском застенке своего католического Бохха, и получишь в точности мысль Аквинского, бредовую, софистичную — что лишь подчинившись Его воле, можно быть свободным. В то время, как на самом деле — что прекрасно знал Люцифер, что знаю я, о чем догадывался ты, — только показывая Ему нос, можно обрести свободу.
— И ты в курсе, чем за это расплачиваются.
— За грехи платят смертью; за добродетель, впрочем, ею же. Так что поищи буку пострашнее. Может, ад? Мой ад везде, и я навеки в нем! Ну чем Данте испугает заключенных Бухенвальда? Почему твой святейший Папа Пий не протестовал против печей нацистов? Не из осторожности или трусости, а из чувства профессиональной солидарности. Пий почувствовал, что лагеря смерти это максимум, как смертному пока удалось приблизиться к плану Всевышнего. Господь Бог — тот же Эйхман, только масштабом покрупнее.
— Полегче на поворотах! — сказал я. Потому что должны же быть какие-то рамки.