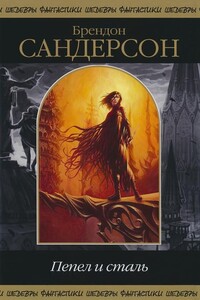Он отвел ладони от лица и, щурясь, поглядел на меня сквозь спутанные волосы. Широкое молодое лицо, простодушное и славянского типа — как у кого-нибудь из героев второго плана в эйзенштейновском эпосе. Широкие губы разошлись в холодной неубедительной улыбке — словно восход луны на театральном заднике. Он поднял правую руку и тремя пальцами коснулся моей груди, ровно по оси, будто желая удостовериться в моей телесности. Удостоверился; улыбка стала поубедительней.
— Вы знаете, — настойчиво спросил я, — где мы? Или что с нами хотят делать?
Бледные глаза покосились сперва влево, потом вправо — не знаю уж, в смятении или страхе.
— Что это за город? штат?
Снова та же морозная улыбка, пока мои слова перекидывали длинный мостик к его пониманию.
— Ну, скорее всего, где-то в горных штатах. Судя по „Тайму“. — Он показал на журнал у меня в руке. Говорил он на самом гнусавом из средне-западных диалектов, не смягченном ни образованием, ни переездами. Что по виду, что по выговору — ну типичный селянин из Айовы.
— Судя по „Тайму“? — несколько озадаченно поинтересовался я и глянул на генерала с обложки (Фи-Фи-Фо-Фам из северной Малайзии или еще какая желтая угроза), словно тот мог бы разъяснить.
— Это региональное издание. „Тайм“ выходит в разных региональных изданиях. В рекламных целях. Горные штаты — это Айдахо, Юта, Вайоминг, Колорадо… — Он перечислил все до единого, словно аккорды на гитаре перебрал.
— А! Теперь понимаю. Не сразу сообразил.
Он издал тяжелый вздох.
Я протянул руку, на которую он уставился с явной неохотой. (Кое-где, особенно на западном побережье, из-за бактериологических бомбардировок рукопожатие считается дурным тоном).
— Меня звать Саккетти. Луи Саккетти.
— А! Да, конечно! — Он конвульсивно стиснул мою ладонь. — Мордехай говорил, что вы приезжаете. Я так рад с вами познакомиться. Просто слов не хватает… — Он осекся, густо покраснев, и отдернул руку. — Вагнер, запоздало пробормотал он. — Джордж Вагнер. — Потом, не без горечи в голосе:
— Вы-то обо мне точно ничего не слышали.
С подобной формой представления мне приходилось сталкиваться настолько часто — на чтениях или симпозиумах, знакомясь с аспирантами и авторами малотиражных журналов, рыбешкой мельче даже, чем я, — что реакция выработалась совершенно автоматическая.
— Нет, Джордж, боюсь, не слышал. Собственно, я удивлен, что вы обо мне-то слышали.
Джордж фыркнул.
— Он, собственно, удивлен… — нарочито гнусаво протянул он, — что я слышал… о нем!
Я не знал уже, что и подумать.
Джордж зажмурился.
— Извините, — едва слышно прошептал он. — Свет. Слишком яркий свет.
— А что это за Мордехай?..
— Мне нравится тут, в коридоре, потому что ветер. И я опять могу дышать. Вдыхать ветер. Если суметь… — Или, может, он сказал „шуметь“, потому что поправился:
— Если не шуметь, можно расслышать их голоса.
Я действительно совершенно не шумел, но единственное, что было слышно, — это рокот кондиционеров, словно гул в поднесенной к уху морской раковине, угрюмые порывы зябкого ветра в зигзагах коридора.
— Чьи голоса? — спросил я не без внутреннего трепета.
— Как это чьи? — Между белых бровей Джорджа пролегла глубокая складка. — Ангелов, разумеется.
„Псих“, — подумал я и тут вдруг понял, что Джордж цитирует мне мое же стихотворение — полупарафраз, полупародию на тему „Дуинских элегий“. Чтобы Джордж, этот наявняк наивняком из Айовы, с такой легкостью бросался цитатами из моих стихов, причем публиковавшихся только в периодике… легче было думать, что он просто спятил.
— Вы эти стихи читали? — спросил я.
Джордж кивнул, и спутанная соломенная, с шелковистым блеском прядь совсем закрыла бледные глаза, словно бы в смущении.
— Это не очень хорошие стихи.
— Нет, наверно, не очень. — Ладони Джорджа, до настоящего момента занятые друг другом у него за спиной, опять поползли вверх, к лицу Они откинули со лба длинную челку да так и замерли на макушке, словно в силок угодив. — Все равно, это правда… их голоса действительно можно расслышать. Голоса тишины. Или дыханье, это одно и то же. Мордехай говорит, что дыханье — тоже поэзия. — Ладони медленно наползли на бледные глаза.